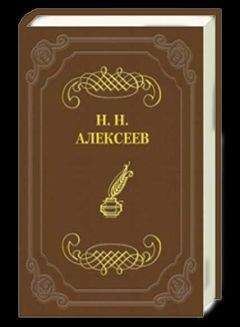Что действительно понравилось Кисельникову в Петербурге, так это Нева. Вышел он на набережную, облокотился на перила и залюбовался. Царственная река текла величаво-спокойная, красным зелотом сверкая в лучах заходящего солнца; там и сям сновали лодки, медленно скользили суда, белея парусами, чуть надуваемыми легким ветром.
Киселышков стоял у перевоза. Внизу, на плоту, какой-то высокий человек лет сорока, одетый в потертый кафтан и старенькую шапку, видимо, горячась, махал руками лодочнику, призывая его с того берега приехать за ним. Вдруг махавший круто повернулся в сторону и словно замер. На его умном, несколько одутловатом лице, отразилась тревога.
— Ай, грех! — воскликнул он, всплеснув руками. — Лодочник! Лодочник! Ведь потонут, ей-Богу!
Алексавдр Васильевич невольно взглянул в том направлении, куда смотрел кричавший, и тоже на мгновение остолбенел: вниз по течению несло перевернутую лодку. Несколько человек барахтались в воде, плывя в разные стороны; какой-то совсем юный парень силился поддержать на воде захлебывавшуюся девушку, во, видимо, изнемогал; ее мертвенно-бледное лицо было прекрасно, как лицо мраморной богини, в широко раскрытых глазах застыл смертельный ужас. Наверняка они должны были погибнуть.
— Лодочник! — продолжал вопить человек на плоту.
— По… мо…гите! — хрипло крикнул парень.
Не отдавая себе ясного отчета, в стремительном порыве сердца Александр Васильевич сбежал на плот, сбросил кафтан, перекрестился, кинулся в воду и поплыл навстречу утопавшим.
Все это было делом одного мгновения. Стоявший на плоту потертый господин, звавший лодочника, сперва ахнул, потом, наблюдая, как Кисельников широкими, смелыми взмахами рассекал воду, прошептал с видимым удовольствием:
— А этот молодец спасет их!
На набережной тут же столпились прохожие, привлеченные происшествием. Невдалеке послышались гулкий конский топот и шум нескольких экипажей. Головы быстро обнажились, по толпе сдержанно пронеслось:
— Государыня!
В одной из ближайших к Неве линий Васильевского острова, в небольшом деревянном доме ютилась убогая лавочка; старая, заржавленная вывеска над ней гласила: «Позументный мастер Маркиан Прохоров». В описываемый день дверь лавочки была наглухо закрыта, а из распахнутых окон, заставленных горшками с чахлой геранью и бальзаминами, и из прилегавшего к дому маленького сада доносились на улицу шум голосов, восклицания, звон стаканов и хлопанье откупориваемых бутылок: хозяин лавочки справлял свои именины.
Сам виновник торжества, мужчина лет за пятьдесят, с добродушным красноватым лицом, обрамленным жидкой темно-русой с сильной проседью бородой, разодетый по-праздничному в ярко-алую шелковую рубашку и, поверх ее, в кафтан тонкого сукна, сидел в саду среди приятелей. На круглом столе, состоявшем из дощатого щита (прикрытого в данный момент пестрой скатертью), прикрепленного к врытому в землю столбику, красовались пухлые пироги, жареные куры, соленая разнообразная рыба и иная разнородная снедь; среди яств высились бутылки разных фасонов и основательные графины с водкой и наливками разных сортов.
Хозяин усердно угощал; сам он пил мало, но все же его крохотные глазки уже несколько посоловели. Приятели, составлявшие его компанию, были все людьми солидными: двое хозяев-сапожников, старший подмастерье голландского бриллиантщика, несколько товарищей по профессии именинника, имевших свои заведения, подобные прохоровскому, один гробовщик и несколько купчиков средней руки.
В доме, под председательством хозяйки, Анны Ермиловны, расположились разнаряженные жены гостей, угощаясь сластями, налегая на наливки и бойко судача о своих знакомках и знакомых.
Молодежь разбрелась и по дому, и по саду мелкими группами, а то и парочками, за которыми зорко наблюдали всевидящие очи мамаш.
Было немало миловидных девушек, но среди них более всех выделялась хозяйская дочь Маша. Среднего роста, стройная, с прекрасным цветом лица, с золотистой косой, дивным профилем и задумчиво-мечтательным взглядом темно-голубых глаз, она казалась красавицей, которой под стать было блистать на придворных балах, а не проводить монотонную и унылую жизнь в более чем скромной лавке позументщика. Подобные красавицы, выдаваясь своей наружностью из среды окружающих, видя всеобщее преклонение и похвалы их красоте, начинают страдать самомнением, смотреть на всех свысока и превращаться в бездушные и пустые существа. К счастью, Маше еще не успели напеть достаточно о ее счастливой наружности, и она, не придавая ей никакого значения, оставалась простой, милой и доброй девушкой.
Однако была пара глаз, в которых девушка слишком часто подмечала нескрываемое восхищение, когда они устремлялись на нее, и которые заставляли ее ярко вспыхивать, а порой недовольно сдвигать брови и надувать губки. Но в глубине души она сознавала, что встречается с этими глазами не без удовольствия и что сверкающий в них огонек заставляет ее странно и сладко волноваться. Их обладатель не раз грезился ей во сне, и подобные сновидения она не считала неприятными.
Эти глаза принадлежали очень маленькому, в смысле общественного положения, человеку, мещанину Илье Сидорову, получившему от товарищей почему-то прозвище Жгут. Он был старшим подмастерьем Маркиана Прохорова; про него говорили даже, что он — правая рука хозяина. Илье было лет двадцать с небольшим, и добиться в столь юном возрасте почетного звания старшего подмастерья помогло ему знание позументного дела, которому он обучился легко и скоро и в котором, по выражению приятелей, собаку съел. Прохоров ценил его и дорожил им, тем более что Сидоров был не крестьянин, а мещанин, следовательно, человек вольный и, при своем знании, легко мог бы найти работу у любого из конкурентов почтенного Маркиана Прохорова, а их было в столице немало.
Илья был недурной наружности. Среднего роста, стройный, с чистым лицом, на котором еще не пробились усы, с живым взглядом серых глаз и румянцем во всю щеку, он производил хорошее впечатление; к этому надо добавить, что он был весельчак, краснобай и изрядный грамотей. Девушки на него посматривали весьма и весьма охотно, но сам он смотрел только на хозяйскую дочку.
В трех различных по возрасту, а отчасти и по общественному положению, группах, на которые разделилось собравшееся у именинника общество, конечно, велись совершенно различные разговоры.
— Нет, ты не скажи, Захар Кузьмич, — говорил хозяин, наливая осанистому купчику объемистый стакан пива. — Хотя ты человек почтенный, а об этом толковать изволишь неправильно. К примеру, возьмем я. Что я есть за человек? Оброчный крепостной князя Семена Семеновича Дудышкина. Однако живу. Барин в конной гвардии служит, и видал я его, дай Бог, десяток раз. Все дела у управляющего, а с ним я в ладах. Приедет за оброком, я его честь-честью угощу, оброк заплачу — и снова вольный на целый год человек. И никто меня не тронет, и живу себе помаленьку, и Бога благодарю. Порой, ей-ей, забудешь, что и крепостной. Ты говоришь, выкупиться надо бы. Да зачем мне зря деньги кидать, если и так ладно живется? К тому же и денег лишних нет, все в деле.
— А все же ты — не то, что вольный, — стоял на своем купчик. — А вдруг барину твоему дурь придет: «Не хочу Маркиана Прохорова на оброке держать, посадить его на землю!». Что тогда скажешь? Изволь на старости лет за сохой ходить, и ничего не поделаешь.
— Никогда этого быть не может! — мотая головой, воскликнул именинник. — Барин тоже свою выгоду блюдет: на барщине я что за работник, а оброк плачу чистоганчиком.
— А не заплатишь ему разок-другой, вот он тебе и покажет.
— Зачем не платить? Надо платить.
— Да ведь мало ли что может быть? Во всем Бог волен. Болезнь приключиться может или мало ли что…
— Тьфу, тьфу! — заплевался хозяин хмурясь и свел разговор на другую тему.
Разговоры хозяйки дома касались иной почвы.
— Который годок Машеньке-то? — спросила старуха в пестром платке.
— К Покрову семнадцатый пойдет, — ответила Анна Ермиловна, тучная женщина, с водяным, нездоровым, дряблым лицом и бесцветными, ничего не выражающими глазами.
— Бежит время. Пора и о женишке подумывать.
— Ныне женихи-то все одна шишь-голь, — со вздохом промолвила хозяйка.
— Ну, есть разные. Не все же, — вмешалась в разговор дебелая жена гробовщика и посмотрела в ту сторону, где громко хохотал ее долговязый сын с веснушчатым лицом.
— Ныне все на приданое зарятся, — стонала хозяйка.
— Так ведь у вас достаточек есть, — выпытывала гробовщица.
— Живем со дня на день, с голоду не помираем. А приданого за Машей — вот эта лавка, когда, не дай Бог, Маркиан помрет.
— Так, — протянула собеседница и снова, но уже с некоторой строгостью, посмотрела на сына, который слишком часто и слишком пристально поглядывал на бесприданницу — дочь позументщика.