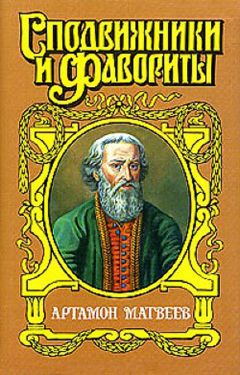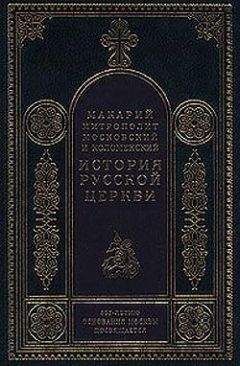— Стареют быстро.
— А я тебе юноша! Ты прямо говори.
— Бесподобна! — выдавил из себя Богдан Матвеевич.
— То-то! — торжествующе воскликнул государь и украдкой перевёл дух.
Ныло под ложечкой — решаться надобно. Жена — жизнь. Положиться бы на Бога, но Бог послал самому выбирать. Три бабы — три разных счастья. Спрятаться хотелось.
Пометавшись по комнате, сел было за стол дела Посольского приказа читать и, не дотронувшись до отписки Ордин-Нащокина, изнемог.
— В Измайлово! — приказал стольникам. — Да без шуму. Скорым обычаем.
Скорым обычаем — без жильцов, без стрельцов, с полусотней рейтар — промчался Алексей Михайлович по вечерней Москве. Миновали заставу, и душевная суета пошла на убыль.
Сияли голубые насты. Огромные дубы отпечатывались на светлых небесах. Корнями держали землю, ветвями — небо. Проехали полем, где в прошлом году он завёл пшеницу с беловатым колосом. Мука из той пшеницы выходила белее обычной, хлебы получались удивительной пышности.
Бугорками лежал навоз. Алексей Михайлович посчитал — восемь. Землица тут ахти бедная, восемь возов для такого поля — крохи. Скотный двор нужно заводить. Надо быков держать! Бычий навоз не чета коровьему. От бычьего навоза растение так и прёт.
Мысли перетекли на хозяйственные дела... Всё-таки пятиполье выгодней трёхполья. Треть земли пустует или только пятая часть... А чтоб скудости в урожае не было — навозу не жалей. В Измайлове сеяли яровую пшеницу, рожь, овёс, горох, пятое поле — четыреста десятин под паром. После гороха хоть ячмень сажай, хоть пшеницу, гречу — земля родит благодарно, не хуже, чем после пара.
Не мог вспомнить, кто ему говорил, — в Суздале горох уж больно налитой да белый. Надо четей двести купить, на все восемь подмосковных сёл.
И вдруг перед глазами, заслоняя поле и мысли о поле, не домна Стефанида явилась, а милое лицо Натальи Кирилловны, а сам он себе представился с громадной кистью винограда: «Кушай, милая! Всяка ягодка — янтарь».
Виноград, слава Богу, прижился в Измайлове. Алексей Михайлович хотел теперь повести дело с размахом. Ещё осенью из Астрахани на судах привезли землю, сто пудов арбузной, сто пудов виноградной. Надо вот только мастера виноградного строения залучить. Искать такого мастера Алексей Михайлович решил в Малороссии, тоже ведь не больно тёплая сторона, снежная, а виноградники не вымерзают. Мастер нужен, первейший мастер!
Выбираясь из саней, государь схватился за поясницу: хрустнуло. Засиделся. Но домовой был добр к хозяину. Печка в опочивальне ждала протопленная и манящая. Алексей Михайлович разоблачился до исподнего и залёг выжарить из костей зимнюю немочь.
За версту от села их настигла метель, неистовый ветер на повороте накренил возок, да, слава Богу, не перевернулись. Оттого и радость домашнего уюта была сугубая.
Печь — крепость. От зимы, от снежного засилья. Как таракашечки в печурках, так люди по избам. Зима на то и послана православному человеку, чтоб Богу молился да сказки указывал.
Долгая зима — долгая молитва, крепкая жизнь. Жизнь среди милых чад, с милою женой... Алексей Михайлович силился додумать что-то важное, нужное, но дрёма накатила сладчайшая. И вдруг к изголовью подошла Мария Ильинична. Господи, уж такая молодая, как в первый месяц их жизни. Бровки вскинуты изумлённо, глаза ласковые, весёлые.
— Ну, женишок, гадаешь, из какой братины винца пригубить?
Алексей Михайлович смутился.
Сон пропал. И впрямь — женишок. Однако ж Мария Ильинична всё-таки не права, он не гадал и даже не пытался сравнивать, какая невеста лучше. Авдотья — красота гордая, девичья. Домна Стефанида — не статуй, как говорит хитрец Богдашка, домна Стефанида — храм великолепия. Наталья Кирилловна — мила, приятна, охотница до наук. Три женщины, три пути.
Вошёл комнатный слуга.
— Великий государь, с Белого моря птиц привезли.
Алексей Михайлович так и привскочил:
— В такой буран? Живы ли птицы-то? Одеваться! Одеваться!
Птиц привёз кречатий помытчик Нестерка Евдокимов. Нестерка, увидевши государя, просиял, и у Алексея Михайловича отлегло от сердца.
— Ну, показывай, показывай!
Три дюжины кречетов и челигов были как одна дивная семья.
— Ах, ты! Ах, ты! — восхищался царь. — Где такая красота водится?
— На мурманском берегу, на скалах, великий государь.
— С такими можно и на журавлей охотиться.
— Зайцев бьют почём зря.
— А белые-то, белые! Таких крупных у меня за всю жизнь не водилось, и сразу пять.
— С Новой Земли, государь. По морю за ними ходили.
Алексей Михайлович глаз не мог оторвать от белых, воистину северных птиц.
— Как у Трифона на иконе. — И приказал: — Помытчиков накормить-напоить с моего стола. Тебе, Нестерко, сто рублёв и шуба. Твоим товарищам по полсотни и всем по кафтану. Сколько вас?
— Со мной — девять.
— И каждому — по лошади... По мерину, из конюшен измайловских... У кого жёны — по атласу, на платье. У кого матери — по бархату.
Осчастливил помытчиков-добытчиков и сам вполне счастливый — соколы были для него совершенством Творения Божьего — пошёл ужинать и молиться на сон грядущий. Соколиная изба стояла отдельно, и, проходя двором, государь изумился тишине и ясности неба. Бури как не бывало. Глядел на небесное Утиное гнездо — на Стожары и задохнулся от слёз, вспомнив о своём гнездовье.
Налетел чёрный вихрь, ударил, унёс Алексея, Симона, Марию Ильиничну, крошечку Евдокию — и тишина, и даже радость — невесты, соколы...
Ему поставили дюжину блюд, но он съел белый груздок, закусил чёрным, выпил настоя из калины и пошёл в крестовую.
Пел пред иконою Спаса «Канон покаянный»: «Ныне преступих аз грешный и обременённый к Тебе, Владыце и Богу моему; не смею же взирать на небо, токмо молюся глаголя: даждь ми, Господи, ум, да плачуся дел моих горько».
Душу вкладывал в слово, но вот напасть, застилая молитву, пошли образы: храмы, монастыри, часовни, какие поставлены во дни его царствия. Сколько дивных чудотворных икон пришествовало в Русскую землю по его прошениям, сколько книг приискано в разных странах. А призвание добрых учителей!
— Господи, коли я грешен, меня бы и наказывал за все мои неистовства, за всю мою ложь... Ан нет! Алексея взял, душу чистую, невинную, света светлого. Не царю окаянному наказание — России, Белому царству.
Перед глазами встал Никонов Новый Иерусалим.
— Господи, сколько красоты Тебе!
Бесконечною чредой пошли иконы пред внутренними очами: строгановского письма, письма Оружейной палаты, Царицыной...
— Всю Москву можно иконами покрыть...
Застонал, обрывая видение — мерзостный плод гордыни, снова пел канон: «О, горе мне, грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне; даждь ми, Господи, слёзы, да плачуся дел моих горько».
В крестовую вошёл старец, божий человек, взятый в тепло на зиму.
— Во славу первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи ты, царь-батюшка, в московской своей церкви молился, а поминал ли нынче Еразма Печерского? Помнишь ли урок, данный Господом через своего угодника?
— Преподобный Еразм... Болел, согрешив, а Господь помиловал: дал здравия, чтоб Еразм схиму принял.
— А в чём прегрешение-то было?
— Раздал имение, а потом пожалел. Так, что ли?
— Так, царь-батюшка. Так. Преподобный Еразм все свои немалые средства употребил на украшение Печерской церкви, оковал серебром и золотом множество икон. Иконы эти алтарь украсили, но, ставши бедняком, испытал Еразм пренебрежение от властей монастыря и от братии. Великая обида поселилась тогда в душе его. О бесплодности дара своего стал задумываться. Перестал радеть Богу в молитвах, в трудах. Господь и навёл на него, усомнившегося, тяжкую болезнь. А братия пуще: «В лености жил, вот и награда. Мучается, а умереть не может. В больном теле и душа больная».
— Вспомнил! — просиял Алексей Михайлович. — Еразм воспрял от немочи и сказал: «Мне явились ныне преподобные отцы Антоний и Феодосий. По их молитвам Господь дал мне время для покаяния».
— Еразму-то и Богородица являлась. Благословила: «Ты украсил Церковь Мою иконами, и Я украшу тебя в Царстве Сына Моего! Встань, покайся, облекись в ангельский образ, а в третий день возьму Я тебя к Себе как возлюбившего благолепие дома Моего!»
— Ах, старче! — воскликнул Алексей Михайлович изумлённо. — Тебя сам Господь прислал ко мне. Я, грешник окаянный, Бога укорил в мыслях. С Творцом Вселенной и всего сущего взялся мериться: он, Свет, не видит-де моих церквей, моих монастырей! Подавай мне за оные награду. Ты пришёл и вразумил... Промельком, но пробралась-таки в башку сатанинская мысль. Всю душу вычернила. Возгордился на единый миг, а вот отмолить соблазн — года будет мало.