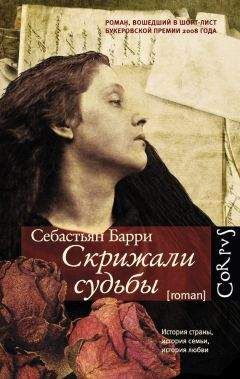Наступило долгое молчание. Я все улыбалась и улыбалась. Я старалась представить, что он видит, когда смотрит на меня. Сморщенное лицо, такое старое, утонувшее в возрасте.
— Конечно, я вас очень хорошо знаю. За все эти годы мы с вами о многом переговорили. Теперь я жалею, что нечасто делал записи. Вы вряд ли удивитесь, узнав, как мало я записал. Я вообще не любитель записывать — наверное, не самое похвальное качество для моей работы. Иногда говорят, что от нас никакой пользы, что мы никому не помогаем. Но я надеюсь, что вам мы как сумели — помогли, несмотря на то что я делал непростительно мало записей. Я очень на это надеюсь. Я рад был узнать, что вы хорошо себя чувствуете. Мне хотелось бы думать, что вы счастливы тут.
Я улыбалась ему старой улыбкой старой женщины: будто бы я не совсем понимаю, о чем он говорит.
— Хотя видит Бог, — произнес он, выказав некоторую душевную тонкость, — тут никто не может быть счастлив.
— Я счастлива, — сказала я.
— Знаете, я вам верю, — ответил он. — Я, кажется, не знаю человека счастливее вас. Но, боюсь, мне придется снова вами заняться — в газетах сейчас столько всего пишут о людях, которые находятся в лечебницах не по медицинским показаниям, а, скажем так, по причинам социального характера — будто бы их тут…
— Держат?
— Да, именно. Держат. И продолжают держать даже в наше просвещенное время. Конечно, вы здесь уже очень, очень давно. Лет, наверное, пятьдесят?
— Не помню, доктор Грен. Наверное, так оно и есть.
— Быть может, вы считаете это место своим домом?
— Нет.
— Что ж, у вас, как и у любого другого человека, есть право быть свободной, если вы готовы, готовы к этой свободе. Думаю, ведь даже в сто лет вам может хотеться пройтись по улице, поплескаться летом в море, понюхать розы…
— Нет!
Я вовсе не хотела так кричать, но, понимаете, сама мысль обо всех этих обыденных действиях, которые в умах многих людей прочно связаны с легкой, счастливой жизнью, для меня по-прежнему что острый нож в сердце.
— Простите?
— Нет, ничего, продолжайте, пожалуйста.
— В любом случае, если я выясню, что вы находитесь здесь без серьезной на то причины, то есть что для этого нет медицинских показаний, мне придется устроить вас в какое-нибудь другое место. Я бы не хотел огорчать вас. И, моя дорогая Розанна, я вовсе не намереваюсь выбросить вас на улицу. Нет-нет, ваш переезд будет тщательно спланирован и не произойдет без моего согласия и одобрения. Но вот расспросы — без кое-каких расспросов нам никак не обойтись.
Не знаю отчего, но вдруг всю меня будто окатило волной ужаса — так, наверное, яд искореженных и губительных атомов расползался внутри людей на окраинах Хиросимы, убивая их так же верно, как и сам взрыв. Ужас был похож на тошноту, на воспоминание о тошноте, которое я ощутила в первый раз за много лет.
— Розанна, вам нехорошо? Пожалуйста, только не волнуйтесь.
— Конечно, я хочу на свободу, доктор Грен. Но она пугает меня.
— Обретение свободы, — любезным тоном сказал доктор Грен, — всегда сопряжено с чувством неопределенности. По крайней мере в этой стране. А может быть, и во всех странах.
— С убийством, — сказала я.
— Да, иногда, — мягко согласился он.
Мы замолчали, и я принялась разглядывать плотный прямоугольник солнечного света на полу. Въевшиеся пятна древней пыли.
— Свобода, свобода, — повторил он.
В его запыленном голосе вдруг прозвенела какая-то затаенная тоска. Я ничего не знаю о его жизни вне этих стен, о его семье. Есть ли у него жена, дети? Существует ли миссис Грен? Не знаю. Или знаю?
Он человек умный. На хорька похож, но это неважно. Тот, кто может говорить о древних греках и римлянах, — человек одного поля с моим отцом. Мне нравится доктор Грен, невзирая на его пыльное отчаяние, потому что беседы с ним отдаленно напоминают мне беседы с отцом, вывязанные из слов сэра Томаса Брауна и Джона Донна.
— Но начнем мы не сегодня, нет-нет, — сказал он, поднимаясь с кровати. — Конечно же, не сегодня. Но я счел своим долгом ознакомить вас с фактами.
С какой-то бесконечной врачебной терпеливостью он направился к двери.
— Вы этого заслуживаете, миссис Макналти.
Я кивнула.
Миссис Макналти.
Я всегда думаю о матери Тома, когда слышу это имя. Я тоже когда-то была миссис Макналти, но не в превосходной степени, как она. Никогда. Уж она не упускала случая лишний раз мне об этом напомнить. Впрочем, отчего же я назвалась тут миссис Макналти, хотя все приложили столько усилий, чтобы отнять у меня это имя? Даже не знаю.
— На прошлой неделе я был в зоопарке, — вдруг сказал он, — с другом и его сыном. Ездил в Дублин, чтобы выкупить кое-какие книги для жены. Книги о розах. Сына моего друга зовут Уильямом — как и меня, о чем вы, конечно, знаете.
Я не знала!
— И вот, мы подошли к загону с жирафами. Уильяму они очень понравились — там было две крупные, высокие дамы-жирафы, с такими гибкими, длинными ногами. Очень, очень красивые животные. Мне кажется, я никогда не видел животных прекраснее.
И тут посреди этой сверкающей комнаты мне привиделось что-то странное — слезинка, которая скользнула по его щеке и быстро скатилась вниз, — темное, тайное рыдание.
— Такие красивые, — сказал он. — Такие красивые. Я замкнулась после разговора с ним, даже не знаю почему. Все-таки это не те счастливые, открытые, беззаботные беседы, что мы вели с отцом. Мне хотелось слушать его, но не хотелось больше отвечать. В разговоре мы чувствуем странную ответственность за собеседника и предлагаем ответы как утешение. Бедные мы люди! Хотя никаких вопросов он не задавал. Просто парил рядом со мной, бесплотный живой человек посередине жизненного пути, незаметно умирающий на ходу, как и все мы.
Чуть позже в комнату, что-то бормоча себе под нос и волоча за собой щетку, приковылял Джон Кейн, человек, которого я научилась принимать, как и все остальное здесь, — то, что нельзя изменить, нужно приучиться выносить.
С легким ужасом я заметила, что у него расстегнута ширинка. Штаны у него оснащены несколькими рядами довольно топорных пуговиц. Росту он маленького, но весь состоит из мускулов и резких линий. У него что-то неладное с языком, потому что через каждую пару секунд он вынужден с видимым усилием сглатывать слюну. Лицо у него покрыто сеткой синих вен и похоже на лицо солдата, который стоял слишком близко к пушечному жерлу во время выстрела. Если верить местным слухам, репутация у него здесь дурная.
— И зачем вам только все эти книги, миссус, очков-то у вас все равно нету.
Тут он опять сглотнул. И опять.
Я прекрасно вижу без очков, но ничего не сказала. Он имел в виду те три книжки, что остались у меня: томик Religio Medici, принадлежавший отцу, «Гончие смерти» да «Листья травы» мистера Уитмена.
Все три — в желтых и бурых следах от пальцев.
Но разговор с Джоном Кейном может свернуть куда угодно, как те наши разговоры с мальчишками в ту пору, когда я была еще девчонкой лет двенадцати: они сбивались в кучу возле поворота, с безразличным видом мокли под дождем и бросали мне фразы приглушенными голосами — поначалу приглушенными. Здесь же, в окружении теней и отзвуков чужих криков, молчание становится величайшей добродетелью.
Которые кормят их, не любят их, которые облачают их, не боятся за них.
Это какая-то цитата, но что это за цитата и откуда она, я не знаю.
Даже всякая чепуха опасна, молчание куда как лучше. Я здесь уже очень долго, и за это долгое время как следует овладела искусством молчания.
Старый Том упек меня сюда. Уж, наверное, он. Оказали ему услугу, ведь он сам работал портным при лечебнице для душевнобольных в Слайго.
Думаю, он еще и каких-то денег заплатил — потому что я сижу в отдельной комнате. Или мой муж Том платит за меня? Но ведь невозможно, чтобы он до сих пор был жив. Это не первая моя лечебница, первой была… Но что ж теперь припоминать старое. Место тут приличное, хоть и не дом. Вот если бы это был дом, тогда бы я сошла с ума!
Ох, надо бы мне выражаться яснее и понимать, что я тут вам говорю. Сейчас все должно быть записано верно, тщательно.
Это хорошее место. Это хорошее место.
Мне сказали, город тут неподалеку. Сам город Роскоммон. Не знаю, как далеко он отсюда, но на пожарной машине туда полчаса езды.
Я это знаю, потому что как-то ночью, много лет назад, меня разбудил Джон Кейн. Он вывел меня в коридор, и мы с ним торопливо спустились по лестнице, на два или три пролета вниз. В одном крыле начался пожар, и он вел меня в безопасное место.
Вместо первого этажа нам пришлось пройти через длинную темную палату, где уже собрались врачи и весь остальной персонал. Снизу валил дым, но это место сочли достаточно надежным. В комнате понемногу светлело, или мои глаза постепенно привыкали к полутьме.