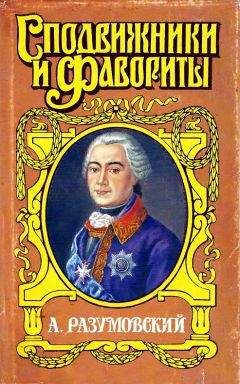Первой привели Бестужеву.
Алексей приоткрыл раму, не отдергивая бархатных штор. Ворвался голос восторженной толпы. Елизавета сквозь щель в шторах все видела и слышала. Алексей, стоял позади ее кресла. Палач содрал с Бестужихи платье… и она незаметно сдернула с груди изумлявший всех золотой, осыпанный бриллиантами крест. Палачи покупались и продавались. Этот был хороший профессионал. Левая рука опустила крест в карман — на алой рубахе для того и были прорезаны глубокие карманы, — в правой привычно заходил кнут. Но он почти не касался плеч, палач останавливал его на излете. Стонала Бестужиха больше для показухи. Тем же манером и нож, выдернутый из висящих на поясе ножен, — он лишь скользнул во рту, пустив кровь…
— Следующую! — весело вскричал хмельной, как водится, палач, поглаживая бороду.
Следующей была дура… распрекрасная, но все-таки дура, Наталья Лопухина.
Когда палач привычной, сильной рукой, одним рывком, распустил на ней от плеч до пола платье и толпа ахнула, наслаждаясь видом роскошного тела, Лопухина совсем обезумела и вцепилась зубами в руку, поднимавшую кнут.
— Ах ты, стерва!
Кнут заходил как по крупу лошади, рубя все, что попадалось, — плечи, ноги, всех покорявшую грудь, и даже лицо…
Лопухина окровавленной тряпкой валялась на помосте…
— Да остановите же… ваше императорское величество! — взмолился Алексей, заливаясь слезами.
— Тише, друг мой. Окно раскрыто, услышат. Да и не закончена еще экзекуция.
Елизавета отхлебнула вина, видя, как тот же кнут приводит в чувство Лопухину.
Палач не стал и ножа доставать, просто разодрал рукой орущий рот… и выхватил кусок окровавленного мяса…
— Кому язычок? Не дорого продаю!
Алексей не мог больше смотреть. Он опустился на пол и лишь слышал крики стаскиваемой с эшафота Лопухиной…
— Вот так, моя раскрасавица, — снова отхлебнула вина Елизавета. — Теперь с муженьком своим в Селенгинский острог пойдешь. И дадут тебе на пропитание пятьдесят копеек на день. Все от наших щедрот…
Алексей рыдал уже не хуже самой Натальи Лопухиной.
Елизавета пила вино.
— Да, — вспомнила она, — я еще не послала курьера к твоей матушке. Наказывала я ей непременно быть на свадьбе моего племянника. Гордись, Алешенька!
— Горжусь… ваше императорское величество, — промычал он с пола, хватая кувшин с вином.
Елизавета с интересом наблюдала, как он запрокинул кувшин и не остановился, пока не вылил все в свое всхлипывающее горло.
Красное вино стекало с губ на кружева рубашки, на раззолоченный камзол, даже на пол.
— Вино и кровь… не одного ли они цвета, друг мой нелицемерный?
— Одного!
— Вот и распрекрасно. Смотреть больше нечего. Остальных только похлещут кнутиком. Мужики Лопухины уже на дыбах повисели, с них довольно.
— Довольно!
— Да. Пойду переоденусь в охотничье. Ты не забыл, мой обер-егермейстер, что сегодня предстоит знатная охота?
— Не забыл… ваше императорское величество!
— И распрекрасно. Через час выезжаем. Скачи вперед и распорядись там должным образом. Собаки, кони, доезжачие. Славно надо сегодня поохотиться.
Елизавета без его кавалерской помощи встала с кресла.
Он уже тоже поднялся, поклонился и сказал, утирая слезы:
— Все будет в лучшем виде.
— Я не сомневаюсь, мой пьяненький обер-егермейстер.
Проводив Елизавету, Алексей поскакал на тройке в сторону Петергофа. До назначенного часа времени оставалось немного.
Все грустные, тяжелые и смешные события заслонил приезд брата Кирилла из Парижа.
— Вернулся, мой младшенький?
— Вернулся, мой старшенький.
Они обнялись истинно по-братски.
— Отдохни маленько — да на службу пора.
— Какой из меня службист! — посмеялся Кирилл.
— Да ведь не в фельдмаршалы тебя прочат. Как пойдешь представляться государыне, она, я думаю, самолично именной Указ прочтет. Должность того заслуживает. Зря деньги тратили на твою учебу? Да только ли на ученье? — нахмурился старший брат. — Доходили до меня вести, что и по злачным местам не преминул побродяжить. Не прогулял ум?
— Нет, брат, — повинился Кирилл. — Ты отца место мне заступил. Не осержусь, если и по-отцовски…
— Топором, что ли? Как наш Григорий-то Яковлевич… царствие ему небесное. Уж лучше розгой хорошей.
Кирилл с готовностью стал расстегивать парижский камзол, явно намереваясь и пониже спустить. В это время двери растворились под рукой невидимого слуги, и вошла Елизавета.
— Что за машкерад у вас?
Кирилл быстро застегнулся и, отвесив глубокий поклон, поспешил к ручке, которая милостиво протянулась ему навстречу.
— Позвольте ответить, ваше императорское величество?
— Позволяю.
— Алексей Григорьевич розгами меня ради братской встречи хотел угостить.
— Розги? Это дело. Это не кнут. Чего ради?
Тут уж Алексей вмешался:
— Науки ради. Ведь не помешает, государыня?
— Науке-то не помешает, да не пошла бы молва, что президент всей российской науки поротым ходит. Хотя чего такого? Бывало, мой грозный батюшка, как выряжусь я в матросский костюмец да непомерно расшалюсь в его мастерской, чего доброго, и разобью какую склянку, увещевать в таком разе любил истинно по-матросски… — Елизавета поняла, что неприлично разговорилась. — Грешна, грешна, до сих пор мужские костюмы уважаю. Особливо как с Алексеем Григорьевичем на охоту понесемся… — В какие-то смешные дебри ее заносило, и она на себя рассердилась: — Да ведь не за тем я пришла! Во дворце каждое бревнышко, даже гобеленами закрытое, сплетни нашептывает, а уж такая-то новость!.. Вернулся, значит, наш дражайший президент академии?
Кирилл смутился. Он, конечно, знал о должности, которая ему уготована, да нельзя же было показывать виду.
— Вернулся верноподданный вашего императорского величества и с великой радостью зрю вас в добром здравии и процветании!
— Не льстец ли будет? — кивнула золотистой головой Алексею.
— Все хорошее — в меру. А не то розги!..
— Наслушалась я подобных шуток и от вашей матушки. Солоны больно… да ведь перед обедом-то можно и солененького? Я у тебя, Алексей Григорьевич, обедаю. Не заморишь голодом?
— Как можно, государыня? — игриво ужаснулся Алексей и дернул за шнурок, который за дверями отозвался серебряным звоном.
Через секунду и дворецкий с камердинером застыли в низком поклоне, будто за дверью стояли.
— Куверт для ее императорского величества!
— Слушаемся, — на два голоса ответили и с теми же поклонами удалились.
Слуги дело свое знали. Обедали ведь то на половине государыни, то в мужских покоях графа Алексея Разумовского. Кухня сообщалась в оба конца. Разве что буфет у графа, был даже пороскошнее, чем у государыни. Дело понятное, мужское.
— Так я пошла переодеваться к обеду? Опять борщ? Каша гречневая?
— Щи да каша — пища наша! — заверил Алексей.
— Ой, мне лейб-медик житья не дает… Не терпится ему засадить меня за французское пустобразие. А что я могу со своим аппетитом поделать?
— Да ничего и делать не надо, — успокоил Алексей. — Неуж такая-то империя свою государыню не прокормит?
— Ой шалун! — погрозила она пальчиком, забыв о присутствии Кирилла, и ушла на свою половину.
Алексей знал, что переодевание займет не менее часа, и поваров не торопил.
Забыл он к тому же об одной существенной мелочи: к обеду был приглашен канцлер Бестужев. А у них установилось неписаное правило: если обед проходил в приватной обстановке, то Бестужеву лицезреть домашний обед не полагалось. Елизавета не любила обоих Бестужевых, а после истории с Лопухиной младшего брата посланником к Фридриху услала. Честь великая, поскольку вокруг Фридриха и крутились все европейские дела, но все же… И обойтись без Бестужевых нельзя, и душа не лежит. Вот и живи с ними!
Алексей не придумал ничего лучшего, как через своего слугу вызвать фрейлину Авдотью и передать ей записку, даже незапечатанную:
«Простите грешного, Государыня! Я не рассчитывал на такую честь, что Вы сегодня изволите обедать со мной, и пригласил Бестужева. Как теперь быть?.. Приказывайте!»
На той же ноге и вернулась Авдотья, с лукавой улыбкой. Елизавета в это время, конечно, сидела за туалетным столом, и записка была писана рукой самой Авдотьи, только стояло в конце — «Елизавет».
«Приказываю: поскорее упоить Бестужева, тогда он не будет морочить мне голову всякими европейскими делами».
Ну, это дело было нетрудное.
Обед ведь предстоял рядовой, без церемоний. Да и не любила Елизавета в подобных случаях излишний церемониал. Люди были свои, привычные. Алексей сменил камзол на бархатный шлафрок — не сидеть же при орденах за украинским борщом. Елизавета была в мягком шелковом платье, без всяких шлейфов, тем более уж без робронов. Она знала, что ей идет голубое, в голубом и пришла, лишь с легкими кружевами на кистях рук. Открытая белоснежная грудь, с золотым крестиком в самой ямочке, волновала не только Алексея, сидящего по правую руку, — Кирилл, посаженный слева, тупил глаза и сбивался в самых простых ответах. Бестужева Алексей усадил уже по свою правую руку, так что ему и невозможно было переговариваться с Елизаветой. Он, кажется, сам себя решил упоить, Алексею с этим и мороки не было, а слуги, стоящие за стульями, дело свое отменно знали: знай подливали да подливали в золоченые бокалы, подаренные маркизом Шетарди. Из малой посуды и в Париже пить не любили, а уж здесь и подавно. Тем более не сразу же до борща дошли. Была и севрюжинка с хреном, и буженинка, и пышущие стерляжьим духом расстегаи, и даже сало, нарезанное тоньше оконного стеклышка. Сидевший напротив государыни лейб-медик Лесток — что делать, непременная принадлежность застолья — с чисто французским ужасом наблюдал, как его подопечная без всякого жеманства поддевает на двурогую вилку изрядное стеклышко и смакует с удовольствием. Вспомнилась Наталья Демьяновна: