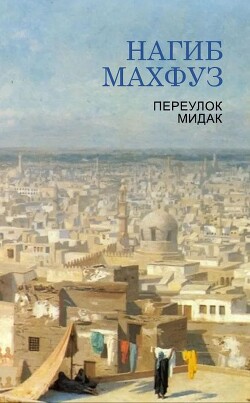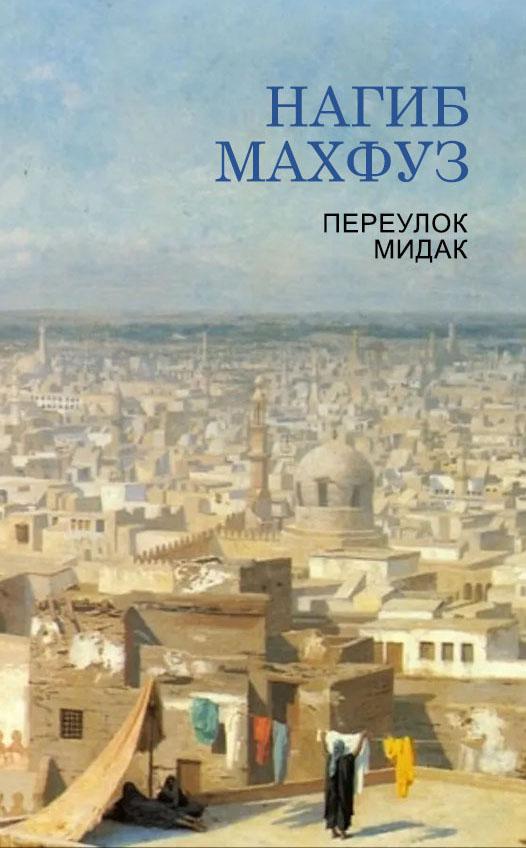— Хамида исчезла!
Господин Алван был ошеломлён, посчитав, что тот обращается со словами к нему, и не сдержавшись, закричал на него:
— Какое мне-то до этого дело?
Однако Шейх Дервиш продолжал говорить сам с собой:
— Она не просто исчезла, а сбежала, и не просто сбежала, а сбежала с мужчиной, по-английски это называется elopement, а произносится как: э-л-о-п…
Прежде чем старик успел произнести это слово, как господин Алван обрушился на него с криком:
— Для меня сегодняшний день будет неудачным, раз я натолкнулся утром на твоё лицо, сумасшедший идиот. Убирайся с глаз моих долой, да будет на тебе проклятие Аллаха!…
Шейх замер на месте, словно пригвождённый к земле, а в глазах его появился взгляд охваченного паникой ребёнка, когда перед ним кто-то угрожающе машет палкой, а затем завопил, весь в слезах. Алван прошёл мимо него, оставив его громко плакать. Шейх Дервиш расплакался ещё больше, и теперь голос его был более похож на крик. На его причитания сбежались учитель Кирша, дядюшка Камил и старик-парикмахер, которые принялись расспрашивать его и отвели в кафе. Там его усадили на кресло и стали утешать и успокаивать как могли. Кирша попросил подать ему стакан воды, а дядюшка Камил похлопал его по плечу и сочувственно произнёс:
— Помяните единого Бога, Шейх Дервиш. О Аллах, сохрани нас от зла… Плач Шейха — дурное предзнаменование… О Аллах, будь милосерден к нам.
Однако Шейх ещё сильнее заплакал и завопил. Дыхание его участилось, а руки и ноги затряслись, губы плотно, судорожно сжались. Он с силой потянул галстук на шее и ударил по земле своими шлёпанцами-сабо. Окна домов раскрылись, и из них высунулись раздражённые или любопытные головы. В кафе явилась Хуснийя-пекарша. Рыдания Шейха донеслись до ушей господина Салима Алвана, сидевшего в своей конторе, который разозлился, услышав их. С яростью слушая завывания старика, он спрашивал себя, когда же они прекратятся… Однако он напрасно пытался переключить своё внимание на что-то другое. Ему казалось, что он преследует и притесняет его, даже весь мир плачет и завывает. Тогда он усмирил свой гнев и успокоился, но плач Шейха потряс струны его сердца, отдававшиеся эхом со страхом и болью. О, если бы он только мог обуздать свой гнев и не кричал на святого угодника-шейха!… О, если бы он вообще не попадался на его пути!… Он не навредил бы ему, если бы тот просто не заметил его и прошёл бы мимо! Он застонал в раскаянии и сказал себе: «Человеку в таком болезненном состоянии, как у меня, лучше всего положиться на Аллаха, а не гневать одного из его святых угодников». Усмирив свою гордыню, он поднялся и покинул контору, направляясь в кафе Кирши. Подойдя к плачущему Шейху Дервишу, не обращая внимания на устремлённые на него полные изумления взгляды, он мягко положил руку ему на плечо и тоном сожаления и раскаяния сказал:
— Шейх Дервиш…. простите меня.
30
Аббас сидел в квартире дядюшки Камила, где скрывался от глаз людей, когда в дверь с силой постучали. Он встал и пошёл открывать. На пороге стоял Хусейн Кирша, одетый в рубашку и брюки. Его маленькие глаза как всегда блестели. Он первым бросился к Аббасу:
— Как же так, ты не встретился со мной? Пошёл уже второй день, как ты в Мидаке!.. Как твои дела?
Аббас Ал-Хулв протянул ему руку и смущённо улыбнулся:
— Как ты сам, Хусейн?… Прости, но я устал. Я не забыл тебя и не пренебрегаю твоей компанией. Давай лучше пойдём вместе пройдёмся.
Они вышли вместе. Аббас провёл бессонную ночь, а утром размышлял. У него разболелась голова и отяжелели веки. От вчерашнего приступа бешеного гнева почти не осталось следов — он утих, как и пылкое возбуждение, а мысли о кровавой мести исчезли. Вместо этого на него опустилась глубокая печаль и мрачное отчаяние. Иными словами, душа его избавилась от того бремени переживаний, выдержать который была не в состоянии, полностью отдавшись на волю скорби и отчаяния. Хусейн спросил его:
— А ты не знал, что я уехал сразу после тебя?
— Правда?
— И женился, и жил на широкую ногу…
Придавая своему голосу больше интереса, чем он испытывал на самом деле, Ал-Хулв произнёс:
— Хвала Аллаху… Поздравляю…Замечательно… Замечательно…
Они дошли до Гурийи, и Хусейн топнул ногой и воскликнул:
— Наоборот, всё скверно и грязно!… Меня уволили, и я против своей воли вернулся в этот переулок. А ты как? Тебя они тоже уволили?
— Нет… Я просто получил небольшой отпуск.
Зависть закралась в сердце Хусейна. Он холодно засмеялся и сказал:
— Это я подталкивал тебя идти работать, а ты сопротивлялся. И вот ты наслаждаешься жизнью, пока я скитаюсь без работы.
Аббасу была лучше всех известна злобная вредная натура своего друга, и он смиренно сказал:
— В любом случае, всё заканчивается, и они просто заверяют нас в этом.
Хусейн от его слов немного успокоился и грустным тоном продолжил:
— Как же так, война так быстро закончилась?!… Кто бы мог в такое поверить?!
Ал-Хулв только лишь кивнул головой, не промолвив ни слова. Ему было всё равно — продолжается война или уже закончилась, будет ли он работать и дальше, или прекратит — всё это его абсолютно не интересовало. Ему было скучно разговаривать с другом, но беседу с ним он всё же находил более приятной, чем одиночество и размышления, а с другой стороны, он просто терпел его, ибо уже привык защищаться от его злости. Хусейн же продолжил:
— Как она могла так быстро закончиться?!… На Гитлера была надежда, что он затянет её до бесконечности, но на наше несчастье, ей пришёл конец.
— Ты прав…
Хусейн яростно закричал:
— Какие же мы несчастные: страна бедствует, и её народ тоже… Разве не прискорбно, что мы вкушаем счастье лишь тогда, когда весь мир перемалывается в жерновах кровавой войны? Один только шайтан проявляет к нам сочувствие на этом свете!
Он ненадолго замолчал, пока они пробирались сквозь толпу народа на Новой дороге, а меж тем завеса сумерек уже подступала всё ближе. Вздохнув с сожалением, он сказал:
— Как же я хотел быть солдатом на войне! Представь себе — каково это жить жизнью бесстрашного солдата, бросающегося в пучину битвы и переходящего от одной победы к другой, сидящего в самолёте и в танке, нападающего и убивающего, берущего в плен бегущих женщин, щедро тратящего деньги, напивающегося и буянящего выше всяких границ. Вот она — жизнь. Ты не хочешь разве быть солдатом?
На самом деле у него тряслись поджилки всякий раз, как он слышал звук сирены, и он был одним из тех, кто постоянно укрывался в убежище. Откуда у него было возникнуть желанию стать солдатом на войне? Хотя он искренне желал родиться солдатом — неотёсанным, жаждущим крови, так что он без труда сможет отомстить тем, кто причинил ему страдания и рассеял в прах его мечту о счастье и безбедной жизни! Он вялым тоном сказал:
— А кто же этого не хочет?
И он пригляделся повнимательнее к улице. В голову его нахлынули воспоминания. Когда же, о боже, он сможет стереть эти воспоминания из своей груди? На этой земле всё ещё остались следы её милых ножек, а воздух по-прежнему хранит аромат дыхания его любимой. Он словно видел воочию её стройный силуэт, как она горделиво шагает. Как же ему всё это забыть?! Он нахмурился, раздражённый тоской по той, что недостойна его. Он закрыл рот, и лицо его стало мрачным и жёстким, и к нему вернулась словно порыв жгучего ветра вчерашняя вспышка гнева. Её следует выкинуть, вычеркнуть как предательницу, иначе сердце его сгорит от грусти, даже не от гнева — на ту, которая блаженно покоится в объятиях соперника. Да пропади пропадом это вероломное сердце, строящее козни против его тела и души! Оно любит тех, кто не любит ни душу его, ни тело, и стремится к тем, кто безразличен к ним. Оно несёт своему хозяину унижение и позор. Тут его вывел из задумчивости громкий голос Хусейна Кирши, что толкнул его локтем и воскликнул:
— Еврейский квартал!
Он остановил Аббаса рукой и спросил: