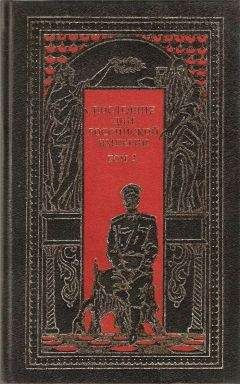Никто ничего не сказал. Лампа коптила, потухая, и в хату вползала темнота. Вдруг из угла раздался певучий, задумчивый, точно женский голос. Это говорил кадет с лицом девушки и с волосами, торчащими кверху.
— А у меня, господа, личного ничего не было. Я сирота… Но у меня была Россия — от Калиша до Владивостока, от Торнео до Батума. У меня был Царь, за которого я молился. У меня был Бог, в Которого я верил…
Он замолчал. Казалось, он плакал.
— Будет! Все будет. Будет единая, неделимая, будет великая, будет святая Русь! — громко воскликнул граф Конгрин. — Корнилов с нами!
Кругом стола раздались громкие воодушевлённые голоса.
— С нами Корнилов!
— Корнилов!
— Да здравствует Корнилов!
Лампочка вспыхнула последний раз и потухла. Маленькая тесная хата погрузилась в глубокую тьму. Яснее стали выделяться квадратные окошечки, заставленные геранью и бальзаминами. Звёздная холодная, зимняя ночь заглянула в них…
— Ольга Николаевна, устраивайтесь с нами. Вам незачем возиться с этими наглыми буржуями.
Оля, входившая пешком в селение, за обозом с ранеными, оглянулась.
Говорившая была среднего роста и средних лет женщина. Все в ней было среднее, умеренное и вместе с тем благородное и красивое. Оля вгляделась и узнала.
— Сестра Валентина! — воскликнула она. — Валентина Ивановна! Какими вы судьбами!
— Долгими, Олечка. Но я слышала то, что у вас вышло с Катовым, и слава Богу. Я так боялась, что вы увлечётесь этим современным мужчиной. Я вас устрою. Сестра Ирина, — обратилась она к худой, седой, монашеского вида, одетой во все чёрное женщине, — позвольте вам представить — Олечка Полежаева, тоже наша царскосёлка.
Это было маленькое, но организованное женское царство. Старшей была сестра Ирина, но всем распоряжалась смелая, энергичная, не знающая усталости сестра Валентина. Раненых и больных было так много, перевязочных материалов, лекарств и белья было так мало, что надо было все создавать самим.
Долго стучались они из хаты в хату, ища приюта для своих раненых, молчаливо лежавших на подводах с глазами, устремлёнными в бледнеющее вечернее небо.
— Занято, — отвечали им. — Пятая рота Добровольческого полка стоит. Поищите, сестрица, на той стороне.
— Занято беженцами…
— Штаб бригады.
— Канцелярия батальона, — говорили из хаты.
Усталые лошади шлёпали ногами по грязи, скрипели колеса. Сёстры терпеливо искали места своим раненым и себе.
— Ах, сестра Валентина, — вздыхала Ирина. — Никто не думает о раненых. Они не нужны. Они обуза.
— Корнилов думает, — спокойно отвечала сестра Валентина. — Он нас не забудет.
И точно в подтверждение её слов, в сумраке вечера, появился конный офицер конвоя Главнокомандующего.
— Это вы, Миша? — спросила сестра Валентина.
— Валентина Ивановна, вам и вашим раненым вот в этот проулочек. Шесть хат с левой стороны. Не видали Алексея Алексеевича? — сказал, подъезжая на худой измученной лошади, офицер.
— Он вперёд поскакал.
— Я думал, уже вернулся. Он был в штабе.
Ещё через час, после утомительной работы разгрузки раненых, когда одних пришлось вынимать и носить на носилках, другим помогать, таскать солому, сёстры заканчивали работу.
— Этого не носите, — тихо сказал вялым голосом бледный юнкер. — Он скончался.
— Что вы, Ватрушин!
— Говорю же. Холодный совсем. Все на меня наваливался. Страшный… — с раздражением сказал раненый.
Когда всех устроили, озаботились подводами на завтра, накормили, согрели и напоили раненых, была уже глухая ночь. Оля, шатаясь от усталости, вошла в хату, отведённую для сестёр. У неё слипались глаза. Маленькая хатка была ярко освещена, на большом столе стучала швейная машинка, а Ирина, Валентина Ивановна и француженка Адель Филипповна, невеста Миши, сидели за столом в ворохе холста и полотна.
— Олечка, вы не слишком устали? — сказала сестра Ирина.
— Постойте, господа, мы её прежде накормим, — сказала Валентина Ивановна.
Она встала от работы и достала с печки котелок с похлёбкой, чайник и
кружку.
— Кушайте, Олечка, а потом поработаем до утра. Посмотрите, какое богатство нам Миша доставил. Реквизнули где-то. Надо рубахи раненым пошить, бинты поделать, а то страшно сказать, сегодня двоих перевязывать пришлось, — так газетную бумагу вместо ваты наложили. Вши начали заводиться. Стирать не успеваем. И вам надо, Олечка, рубашечку сшить У вас ведь другой нет?
— Нет… Я с самого Ростова не могла её помыть. Ведь когда моешь да сохнешь, приходится платье на голое тело одевать. А там у Катовых негде было, — грустным голосом сказала Оля.
— Ну вот! Берите ножницы. Кройте по моему рисунку.
Зимняя долгая ночь тянулась бесконечно. Сон пропал, и торопливо бежали мысли, а руки, покрасневшие от напряжения и уже натрудившиеся, все резали, резали то грубый холст, то полотно. Оле вспомнился её громадный бельевой шкап в Царском Селе и полки, на которых воздушными кипами, в кружевах и прошивках с продернутыми насквозь пёстрыми красивыми ленточками, лежали дюжинами рубашки и панталоны. Кто-то их носит теперь? Оля вспомнила Царскосельский парк и ту бледную изломанную особу, которая смотрела на неё сквозь стекла золотого лорнета. Какая она была ужасная. Может, она носит теперь её белье?
Монотонно стучит швейная машинка. Остановится, помолчит и снова стучит, точно пулемёт… «Пулемёт… Пулемёт», — повторяет вслух Оля, и её глаза слипаются, а ножницы падают с опухших пальцев.
— Олечка, вы спите, — говорит ей Валентина Ивановна. — Отдохните немного.
— Нет. Я ничего, — встряхиваясь, говорит Оля.
— Давайте теперь будем вместе резать бинты и сворачивать их. Третий час уже. До утра недолго. А утром на походе, в подводе заснём. На солнышке славно выспимся!..
Перед глазами крутится длинными полосами полотно, шуршит и потрескивает, сворачиваясь в большие цилиндры.
— Всех раненых завтра утром свежими бинтами перебинтуем, — говорит со счастливой улыбкой сестра Валентина, — То-то обрадуются! Ведь вот у Ермолова, — даже и не рана, а так пустяки. Плечо прострелено. А не перевяжи вовремя, выйдет нагноение, Боже упаси, руку по плечо отнимать придётся.
Вздрогнула Оля, и сон пропал у неё. «Руку по плечо отнимать придётся», — подумала она.
«Какой он хороший, Ермолов! Настоящий герой старого времени. Он так мало говорит и так много делает. От него веет давно забытыми романтическими образами истории, и он так не похож на героев нового времени, политических болтунов в офицерском платье, с жестами и замашками демагогов. Про Ермолова нельзя сказать, как теперь говорят про многих офицеров: «Он хорошо говорит. Он умеет влиять на толпу». Как-то раз Оля спросила у него: «Какой вы политической партии?» Ермолов посмотрел на неё: «Простите, — сказал он, и лицо его вспыхнуло, — я — офицер. Этим все сказано». Оля тоже покраснела и сказала: «Теперь, в гражданской войне, все офицеры придерживаются какой-нибудь партии. У нас есть полки монархические и полки республиканские. Корнилов и Алексеев не раз заявляли, что они республиканцы. Будем считаться с тем, что теперь есть, а не с тем, что должно быть».
«Если это так, — сказал Ермолов, — то это ужасно. Надо распускать Добровольческую Армию. Она порядка и тишины России всё равно не даст. Когда мы одолеем большевиков и Корнилов диктатором войдёт в Москву и соберёт Учредительное собрание, монархические полки пойдут валить Корнилова и объявят новый поход против полков республиканских. Предоставим партиям вести между собою грызню из-за лакомого куска власти. Плохо, если руки подумают, что они голова, и будут делать то, что им хочется, а не то, чего требует от них голова».
Это было дня три назад, в большой красивой казачьей станице — первой станице, где их хорошо приняли, и Оля помнила каждое слово этого разговора. Она почему-то подумала тогда: «Любит ли он меня?» Вспыхнула, посмотрела в большие, блестящие, ясные, серые глаза, не умеющие лгать, и прочла в них то, чего он не смел сказать. После этого разговора не было дня, чтобы они хотя на минуту не встретились, чтобы он не отыскал её в громадной толчее подвод и движущегося народа, чтобы она не увидала его стройную высокую фигуру в рядах Корниловского полка и сердце её не забилось сильнее.
Из всех полков Добровольческой Армии — Корниловский полк всего дороже Оле, и значительную часть той любви, которою горело её сердце к Государю Императору, она перенесла на этого маленького смуглого человека, с узкими косыми блестящими глазами, которого считают Наполеоном России…