Цезарь, решивший, что сможет победить столь просторную, воинственную и независимую страну, как Галлия, превосходно понимал, чем он обязан итальянским экспортерам. Так что они не только обеспечивали его шпионами. Германцы, увидев результаты воздействия вина на галлов, зашли настолько далеко, что «запретили ввоз его в собственную страну, так как, по их мнению, вино делает мужчин слабыми».[187] Кстати — и раздражительными. Галльские вожди ценили вино выше золота. Племена непрестанно нападали друг на друга, чтобы добыть рабов, обескровливая страну своими набегами, порождая дикие, глупые раздоры. Все это делало их легкой добычей для такого человека, как Цезарь. Он остался невозмутимым, даже когда лазутчики донесли ему весть о том, что против него собрано ополчение в 240 000 человек. И это несмотря на то, что племена, встречавшиеся на его пути принадлежали к народу белгов, который, благодаря тому, что «являлся самым отдаленным от цивилизации и роскоши римской провинции, менее часто посещался купцами, ввозившими товары, приводящие к изнеженности»,[188] считался наиболее отважным во всей Галлии. Цезарь нанес им тяжелый удар, со всей стальной мощью, на которую был способен. Чем дальше на север он продвигался, тем более шатким становился союз белгов. К подчинившимся племенам проявлялась подчеркнутая снисходительность. Сопротивлявшихся уничтожали. Орлы Цезаря стали на берегу Северного моря. И там гонцы принесли ему весть от Публия Красса, энергичного и молодого сына триумвира, оповещавшего о том, что вверенный ему легион подчинил себе все племена на западе Галлии. «Мир, — писал, торжествуя, Цезарь, — принесен всей Галлии».[189]
Новости были восприняты в Риме с восторгом. В 63 г. Помпею устроили десятидневное общественное благодарение. Теперь, в 57 г., Цезарь был удостоен пятнадцати дней. Даже самые непримиримые враги его не могли отрицать столь ошеломительных достижений. В конце концов, ничто из того, что способствовало укреплению престижа Республики, не могло считаться преступлением, и Цезарь, научивший Галлию чтить ее имя, ввел в орбиту Рима народ, прежде утопавший во мраке варварства. «Страны и народы, — изливал свои чувства в Сенате один из старинных противников Цезаря, — не оставившие о себе памяти в книгах или в свидетельствах очевидцев, и даже в слухах, теперь покорились нашему полководцу, нашему войску, оружию римского народа».[190] Действительно, был повод возликовать!
Однако Цезарь не мог позволить себе расслабиться. При всей глубине его опустошительного вторжения один-единственный поход не мог низвести Галлию до статуса провинции. В настоящее время страна была готова признать авторитет Цезаря, однако верховная власть над народом, настолько исполненным духа соперничества и свирепым, как галлы, должна была иметь под собой более прочную основу. А ее, конечно же, следовало искать в Риме. Вот почему Цезарь даже из сырых северных лесов вынужден был хотя бы одним глазом, но внимательно следить за политическими сражениями в столице. Жизнь в Риме не останавливалась в связи с его отсутствием. Многое уже успело перемениться. И ничто не способно лучшим образом продемонстрировать это, чем появление человека, который, поднявшись в Сенате, предложил объявить благодарение за успехи Цезаря в Галлии — после горестного восемнадцатимесячного изгнания Цицерон возвратился в Рим.
Помпей вновь вступает в игру
В мрачные дни, предшествовавшие его бегству из Рима и изгнанию, отчаявшийся оратор валялся в пыли как перед Помпеем, так и перед Цезарем. Цицерон давно уже утратил веру в своего идола, однако все-таки не отказывался от него. Несмотря на явное участие Помпея в произволе, творившемся во время консульства Цезаря, Цицерон вопреки всему продолжал надеяться на то, что все будет хорошо и что великого человека удастся возвратить на путь законопослушания. Помпею со своей стороны было лестно ощущать себя покровителем Цицерона, и он даже снизошел до того, что посоветовал Клодию не заходить слишком далеко со своей вендеттой. Жест этот был наполнен известной долей патетики: в то время, когда популярность его находилась в состоянии свободного падения, когда его впервые в жизни освистывали, Помпеи усмотрел в почитании себя Цицероном любезное сердцу напоминание о старых добрых временах. Стремясь избавиться от сомнений и разочарования, он даже признался оратору в том, что сожалеет о собственной роли в триумвирате, — и откровение это охваченный волнением Цицерон немедленно разнес по всем своим друзьям. Безусловно, о нем узнал и Цезарь — и утвердился в собственном мнении о том, что Цицерону следует уйти. Помпеи, вынужденный выбирать между тестем и преданным другом, уступил, хотя и без особого желания. Когда гонения, направленные Клодием на Цицерона, достигли своего бурного максимума, смущенный этим Помпеи удалился в свою сельскую виллу. Отказавшись понять намек, Цицерон попытался найти его там. Привратник ответил ему, что никого нет дома. Помпеи, не имея сил на встречу лицом к лицу с преданным им оратором, ускользнул через заднюю дверь.
Когда Цицерон благополучно отправился восвояси, великий человек вновь погрузился в мрачные мысли — лживые уловки не гармонировали с его представлением о себе. К тому же он так и не приблизился к разрешению той немыслимой квадратуры круга, которая докучала ему после возвращения с Востока. Помпеи мечтал об уважении и восхищении равных и о высшей власти, на которую, по его мнению, имел право благодаря своим достижениям, — но не мог добиться того и другого одновременно. Теперь, сделав свой выбор, он обнаружил, что власть без любви имеет горьковатый привкус. Обиженный Римом, Помпеи обратился за утешением к жене. Он женился на Юлии, дочери Цезаря, по самым хладнокровным политическим соображениям, однако уже скоро безнадежно поддался ее юному обаянию. Юлия со своей стороны относилась к своему мужу с восхищением, которого ему так не хватало в жизни. Поддавшись взаимной страсти, пара начала все больше и больше времени проводить за городом — в своем любовном гнездышке. Сограждане Помпея, по воспитанию своему не привыкшие к проявлениям супружеской привязанности, фыркали с похотливым неодобрением. Назревал скандал. В недовольстве общества Помпеем начинало сквозить презрение.
Никто не мог оказаться более чувствительным к подобной перемене ветра, чем Клодий. У него был отличный нюх на чужие слабости, и в голову его начинала приходить такая мысль: а не окажется ли Помпеи, при всей своей блестящей репутации и верных ветеранах, колоссом на глиняных ногах? Предположение было слишком соблазнительным, чтобы воздержаться от его немедленной проверки. Ясно сознавая, что ничто не может оказаться более неприятным для Помпея, чем новые нападки на его восточное уложение — вопрос, в конечном счете, вынудивший его заключить судьбоносный альянс с Крассом и Цезарем, — Клодий попытался немедленно ухватить триумвира за глотку. Царевич Тигран, сын царя Армении, все еще находился в Риме в качестве заложника спустя восемь лет после того, как отец передал его Помпею в качестве гарантии своего примерного поведения. Клодий не просто выкрал царевича из-под носа великого человека, но, умножая наносимые Помпею оскорбления, посадил его на борт корабля, чтобы отправить домой в Армению. Когда Помпеи попытался вернуть своего заложника, его сторонников перехватили по пути и избили. Истеблишмент, явным образом не желавший занимать сторону Помпея, наслаждался зрелищем его бессильной ярости. Именно на такой исход и рассчитывал Клодий. Хотя банды его бесчинствовали на улицах города, сам он купался в свете одобрения сенаторов.
Не стоит думать, что Клодий, располагая возможностью унизить врага, нуждался в каком-либо поощрении. Как было прежде с Цицероном, так и теперь, имея дело с Помпеем, он чуял запах крови. Банды его, естественно, впали в ярость готового к убийству хищника. Когда бы несчастный Помпеи ни появился на Форуме, его немедленно приветствовали градом насмешек. Дело отнюдь не было пустяковым. Один из самых древних законов Республики приравнивал выкрикивание оскорблений к убийству. В свете подобных традиций Клодий наносил Помпею смертельные оскорбления, и полководец реагировал соответствующим образом. Ему еще не приходилось бывать объектом подобных насмешек. Питаемое им к жене чувство становилось особым поводом для веселья. «Как зовут обезумевшего от похоти полководца? — вопил Клодий. — Кто прикасается пальцем к виску?»… И после каждого вопроса движением складок тоги он давал знак толпе, и бандиты его заученным хором дружно орали: «Помпеи!»[191]
«Кто прикасается пальцем к виску?» Чтобы человек, застигнутый в женской одежде, мог обвинять величайшего среди полководцев Рима в изнеженности, необходим был изрядный запас наглости. Тем более когда окружение Клодия все больше и больше увязало в скандалах на сексуальной почве. Марк Антоний после интриги с Курионом начал «принюхиваться» к любимой жене Клодия Фульвии, попирая тем самым все кодексы дружбы, что скоро заставило их перейти к угрозам убить друг друга. Свою триумфальную победу в суде над Гибридой Марк Целий отпраздновал тем, что арендовал у Клодия роскошные апартаменты на Палатине. Там он и познакомился с Клодией. Остроумный, симпатичный и знаменитый ритмом своей жизни Целий оказался героем романа вдовицы. Честолюбивому Целию не нужно было никаких дополнительных соображений, чтобы вступить в близкие отношения с представительницей семейства Клавдиев, а Клодия, только что похоронившая мужа, явно нуждалась в утешении. Впрочем, ее личный стиль траура не мог вызвать ничего другого, кроме поднятых в удивлении бровей. Дела этой знатной дамы оставались предметом постоянного интереса римских сплетников, как и постоянной темой оскорбительных лозунгов на Форуме. Однако, что бы там ни орали против него самого и сестры, Клодий всегда мог заглушить недовольные голоса. Обвинения в аморальности только подталкивали его к еще более откровенным выходкам. Разъяренное ханжество сограждан лишь увеличивало в его глазах степень забавности всего происходящего. Посему обвинения Помпея в распутстве не прекращались.
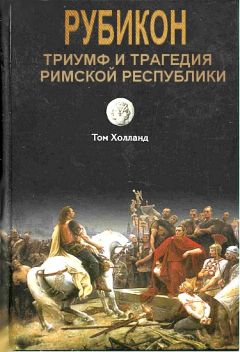
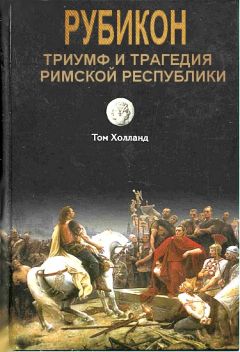


![Дана Белл - Стальная красота [ любительский перевод]](https://cdn.my-library.info/books/151362/151362.jpg)
