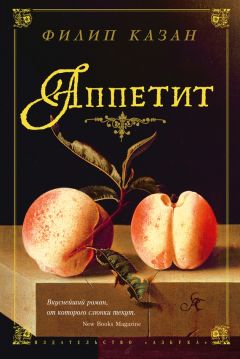Я оставался с ним, пока понос не замедлился и не остановился, так что Проктор снова смог встать. Тогда я помог ему вернуться в постель. Предложил кусочек мушмулы, но он отвернулся. Так что я отправился на приютскую кухню и приготовил немного оксимеля – в холодной кладовой нашелся мед и яблочный уксус, такой старый, что раствор превратился в странную массу, похожую на шар из прозрачной шерсти, которая заткнула горлышко бутылки, когда я попытался вылить содержимое. Проктор позволил мне покормить его с ложечки, а перед этим я помог ему сесть, подсунув руку под спину. Он бормотал и глотал при свете дешевой оплывающей сальной свечи, которая испускала такой чад, что казалось, будто она свисает с балки на черном шнуре. Прозвонили повечерие. Мы снова сходили в нужник, и я опять накормил Проктора, капля за каплей, оксимелем и сел, скрестив ноги, на пол рядом с его тюфяком. И сидел так, пока его бормотание не утихло и бедняга не провалился в сон изнеможения.
Я проснулся от пощипывания вшей и едкого запаха сгоревшего сала. Я лежал на полу рядом с тюфяком Проктора. Судя по вшам, которые ползали по моей коже и одежде, монахи оказались не совсем честны, утверждая, что матрас из свежей соломы. Я сел. Проктор сидел на своей простыне, по-портновски скрестив ноги. Из уголка его рта спускался слизнячий след слюны, уходящий в открытый ворот рубашки, а глаза окружала желтая корка, но сами глаза оказались ясными. Смотрели они на меня.
– Ты еще жив! – воскликнул я.
Проктор моргнул, кашлянул. Он взирал на меня без всякого упрека или злости. Если в его глазах что-то и читалось, то некое озадаченное любопытство.
– Я чуть не убил тебя. Проктор, я так виноват! Я воспользовался тобой для опыта. Это непростительно. Я чудовище. Я у тебя в глубочайшем долгу. Если я могу как-то возместить тебе…
И тут меня пронзила мысль. Не слишком мудрая мысль, но в ней была некоторая ценность, некое обещание искупления.
– Я еду в Умбрию, – сказал я.
Проктор снова моргнул, и его лицо напряглось от какой-то собачьей готовности.
– В Ассизи. Это же в Умбрии, так? Я собираюсь в паломничество. Поедешь со мной?
34В третий понедельник сентября мы с Проктором выехали из Порта дель Пополо и по Равеннской дороге двинулись к Ассизи. Небеса были чистейшего голубого цвета, их прочерчивали нити птиц, летящих к югу. Что наверху, то и внизу: паломники по-прежнему тянулись по дороге к Риму, в основном с севера, чтобы успеть попасть домой, прежде чем зима превратит дороги в бездонную грязищу. Птиц манило обещание теплых краев, куда никогда не приходит зима, а паломников – святые места и реликвии мучеников, а также возможность лицезреть, пусть и мимолетно, земного представителя Христа. Меня же манила на север Тессина. Я начал видеть ее повсюду: в бледно-белокурой, выгоревшей за лето траве, в редких высоких и совершенно белых облаках, в синеве неба, отраженной в ручьях и реках, которые мы пересекали по древним мостам.
Я отдал свое письмо об отказе от должности управляющему кардинала. Он сначала удивился, потом разозлился, но мне было все равно. Я уже перебрался из Сан-Лоренцо ин Дамасо в дешевый трактир. Мои невеликие пожитки были припрятаны у Лето. Кухня осталась в руках Луиджино, моего заместителя, который и так управлял там всем, пока я тратил свое время на тревоги кардинала. Деньги, которые я откладывал, собрались в весьма солидную сумму, так что я обзавелся новой одеждой, черной шляпой, мрачной, но дорогой, и тяжелым дорожным плащом. Потом я купил двух лошадей, что унесло часть моих сбережений. После этого я удостоверился, что мой кошелек достаточно толст, дабы обеспечить нам двоим приличную еду и постели, а остальную свою казну разместил во Флорентийском банке (стоит отметить, не в банке Медичи).
В первый день я встал рано, задолго до рассвета, переполненный волнением, какое приходит перед долгим путешествием, – дальше оно превратилось в род лихорадки при мысли, что в конце пути меня ждет Тессина. Я оседлал обеих лошадей, наслаждавшихся сомнительным гостеприимством трактира, и провел их по почти пустым улицам к приюту Белых Отцов. Проктор ждал меня, расхаживая туда-сюда по улице перед дверью. У него не было никаких пожитков, кроме одежды, которую ему отдал я, и собственного плаща, который, как я решил, ему понадобится. Он отвесил преувеличенный поклон закрытой двери приюта, мне – короткий резкий кивок и взобрался на свою лошадь.
Лошадь Проктора была небольшая, с провисшей спиной, апатичная и дешевая. Я не ожидал, что нищий умеет ездить верхом, и подобрал ему клячу, которая будет везти его так же скучно, как если бы он сидел в тележке, запряженной ослом. Но когда я привел Проктора в конюшню, думая, что придется учить его сидеть верхом, он, к моему изумлению, вскочил в потертое старое седло и через секунду сообщил, что у лошади деревянный рот. Я несколько застеснялся своего собственного коня, красивого неаполитанского мерина, темно-гнедого с более светлыми крапинами на боках, коего Проктор обозрел одобрительно и, если я не ошибся, с некоторой завистью. Но, прогнав свою лошадку вверх и вниз по улице, он решил, что не такая уж животина и скованная, заявил, что в ней есть берберская кровь и что он когда-то восхищался ее предком на лошадиной ярмарке в Перудже.
Мы хорошо проехались в тот первый день и остановились в трактире, который, хотя пища была омерзительной, по крайней мере, предложил нам кровать, свободную от вшей. Я вез с собой небольшой кожаный мешок, в котором лежал серебряный сосуд с молотым перцем, корицей, гвоздикой и имбирем вместе с тремя мускатными орехами и маленькой теркой для них, так что, когда я поработал ими, ужас еды удалось несколько замаскировать. После еще пары дней легкой дороги мы приехали в Нарни, где город нависает над глубокой и зловещей долиной. Рано утром мы пересекли Тибр у Отриколи, и немедленно, как только лошади оказались на дальнем берегу, Проктор начал нюхать воздух, словно охотничий пес.
– Понюхай, Доктор Ветер! Воздух! О Господи, воздух!
– Что случилось? – участливо спросил я.
В последнее время Проктор вел себя спокойно, но до меня вдруг дошло, что если его безумие в полной силе вернется в нашем путешествии, то я буду плохо подготовлен к борьбе с ним.
– Умбрия! Мы в Умбрии! Хм, хм… да, да! Свободны от тягостных миазмов Лацио, наконец-то свободны. Ты разве не чуешь этого, доктор? Не чувствуешь, какой здесь воздух чистый, какой свежий!
– Мне не верится, что атомы на этой стороне реки так уж сильно отличаются от тех, что на той, – педантически заметил я. – И, кроме того, я не ощутил никакого барьера посреди реки, а если атомы…
Но Проктор уже ткнул пятками лошадь и скакал прочь от меня. Выругавшись, я припустил за ним.
Издалека при виде Нарни у меня побежали мурашки, но мы нашли приличный трактир, гордящийся своей кухней. Нарни славится виноградом, и хозяин принес горшок винограда в патоке – прекрасных зеленых жемчужин, которые я брал одну за другой и вертел в пальцах, прежде чем раскусить.
Проктор подозрительно наблюдал за мной всякий раз, как я ел. После чемерицы его разум заметно прояснился или, по крайней мере, сосредоточился, потому что теперь он редко упоминал о Перудже или своем воображаемом чине, но проявлял необычный интерес к людям и вещам вокруг. Я решил, что каждый момент его жизни был подчинен неверному перевариванию в уме, расстроившемуся под воздействием разбалансированных гуморов, так что каждый опыт измельчался, варился, жевался, пропускался через сито и отливался в форму, пока не оставался только вкус Перуджи. Этот процесс вроде бы остановился, что я приписал слабительному и блюдам, которые усердно подбирал для Проктора.
Я не решался снова применять чемерицу, но еще пара слабительных средств, на этот раз из алоэ и полыни, действовали гораздо мягче, и я смог убедить своего пациента, что они приносят ему пользу. Он прибавил в весе, заполнив своим телом мою старую одежду так, что она стала более-менее прилично сидеть на нем. Состояние кожи улучшилось, исчезли прежде покрывавшие ее болячки и рубцы. В общем, Проктор перестал быть похож на безумца, по крайней мере внешне. Его ум все еще был нетверд и уязвим, но я представлял, как мягкое складчатое бланманже внутри его черепа укрепляется, теряя нездоровые пятна и бледность, как и само тело. Черная желчь больше не перегорала и не посылала губительные пары́ в его мозг. Под моим пристальным взглядом Проктор тщательно пережевывал пищу, и, судя по качеству его мочи и кала (которые я втихомолку осматривал), приобрел скорее холерическую натуру, чем меланхолическую. И в поведении он тоже стал явственно сухим и жарким: его речь сделалась отрывистой и четкой, а сам он – несколько вспыльчивым. В то же время он очень привязался ко мне. Я чувствовал, что он еще не совсем простил меня за ужасные мучения, которые доставило ему мое слабительное, но осознал принесенную им пользу. По крайней мере, я решил считать так, потому что, едва не убив бедное создание, теперь чувствовал за него ответственность. Можно было принять нас за хозяина и слугу, хотя наши отношения больше походили на дружбу мальчика с бродячим псом.