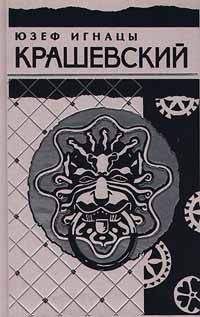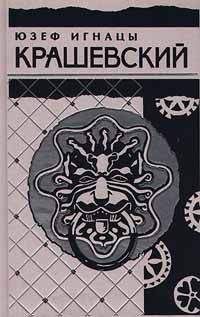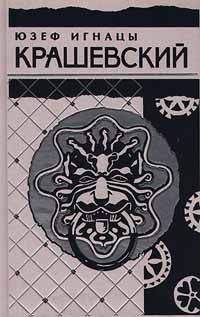И он красноречиво размахивал саблей.
Ага побледнел от ярости как полотно. Но, осмотревшись, увидел, что число солдат растет, а толпа горожан и любопытных подзадоренная разглагольствованиями Свидерского, принимает угрожающее положение. Тогда он стал просить через посредство армянина:
— Пусть отведут меня в подворье, я буду терпеливо ждать…
Но Свидерский уперся на своем:
— Пусть выдадут оружие…
После тщетных переговоров, турки, видя, что попали в западню, волей-неволей стали с лязгом и проклятиями бросать на землю сабли, которые Свидерский велел спешно подбирать, зная, какая им цена.
— А теперь, — прикрикнул он, — хотя у меня и приторочен у седла моток шелковых бечевок, чтобы вязать пленников… но, так и быть, пускай возвращаются в свое подворье не на привязи… только с глаз их не пускать!
Тогда ага повернул коня, а вслед за ним Свидерский. Он ехал важно, с обнаженной саблей, покручивая ус, и провожал турок до подворья, когда догнал их Тшетяк, из королевской канцелярии.
— Пан наместник, — закричал он, — то-то вы заварили кашу! Знаете ли, что значит взять в плен посла и нанести ему такое оскорбление? Это называется нарушить международные права… Как мы выпутаемся?
Свидерский разозлился.
— Какое мне дело до международных прав! Собесский разделывает их там под орех, а мы здесь к ним с почтением! Вздумал задирать свой нос! Как бы не так… Что с воза упало, то пропало!..
И он дал знак увести узников, а Тшетяку, не прощаясь, крикнул:
— Провожу их до подворья, поставлю стражу, а потом уже поговорю с ксендзом-подканцлером.
Так и сталось. Турки, не солоно хлебавши, должны были вернуться в свое подворье, оружие им не вернули, а Свидерский приставил к ним, вдобавок, стражу, приказав первому, кто попытается бежать, всадить пулю в лоб. Сам же прямо с места, отправился к епископу.
Тот, оказалось, только что вернулся от архиепископа и переодевался. Свидерский велел доложить о себе.
Епископ немедленно вышел к нему.
— С какой, ваша милость, вестью? — спросил он.
— Безделица, ваше преосвященство: забрал в плен турок; что прикажете с ними делать?
— Каких? Где? — в испуге спросил епископ.
— Да этого… агу! Таскался по улицам, силой хотел пробраться к королю, так что пришлось окружить его и заставить положить оружие.
Ксендз Ольшевский побледнел и задрожал от страха.
— Иезус, Мария! — воскликнул он. — Вот наколобродил-то: посол — неприкосновенная особа!
Свидерский пожал плечами.
— Ничего не знаю… шумит, силой лезет к королю… так я и позволил! Посадил его под стражу. Что с ним делать?
— А я почем знаю? — ответил, задумавшись, подканцлер. — Пусть останется где есть; только упаси вас Боже пальцем его тронуть! Турки завопят и будут мстить.
— Мне кажется, ксендз епископ, что Собесский научил их там уму-разуму и они пикнуть не посмеют. Тем более, что вожделенного ради здравия его королевского величества…
И Свидерский победоносно удалился.
Однако горожане очень беспокоились, как так осмелились посадить под стражу султанского посла…
К вечеру наверное поджидали конца из-под Хотина.
Состояние здоровья короля было все то же, но к сумеркам лихорадка, как обычно, увеличилась, он бредил и томился.
Браун на вопросы либо ничего не отвечал, либо ворчал:
— Ксендза ему, а не врача… Ни я не помогу, ни сотня нас, если бы собрались…
Среди зловещей тишины, царившей в доме, Михаил лежал и бредил… О предмете его галлюцинаций можно было догадаться по отрывочным словам, срывавшимся у него с языка:
— Есть письма?.. Какие вести от гетмана?.. — не получив ответа, он зарывался в подушки и стонал. Снова просыпался и метался.
— Взяли Каменец, взяли Каменец?
Никто не отвечал… Король, закрыв лицо руками, умолкал.
Среди лихорадочного бреда наступил вечер; опасались поворота к худшему. Между тем случилось обратное: король проснулся, и слабым, измененным, но совершенно естественным голосом спросил который час. Супруга кравчего, сидевшая у постели, ответила и спросила, не хочется ли ему пить.
Король отрицательно покачал головой.
Лицо короля ужасно похудело и приобрело какое-то застывшее выражение… Казалось, что под этой оболочкой готовится какой-то перелом. Речь была сознательная, но холодная.
Все это чрезвычайно обрадовало чету кравчих и Келпш побежал к Брауну с вестью, что королю значительно к ночи полегчало. Врач поспешил к больному и, с великим изумлением, нашел значительное улучшение пульса.
Действительно, болезнь как будто уступила лечению, лихорадка ослабела, сознание было ясное, король все вспомнил и жаловался только на слабость.
Поворот к лучшему был настолько очевиден, что все воспрянули в надежде. Ксендз Ольшевский, прибыв к постели короля, не хотел верить своим собственным глазам и ушам. Браун только пожимал плечами.
В этот день ждали вестей из армии, обещанных Собесским, как только он подойдет к Хотину и определит неприятельские силы и собственное положение. Потому всех охватило нетерпение.
Тем временем король потребовал духовника.
В полной тишине, без помпы, которая могла бы привлечь любопытных, король был напутствован Святыми Дарами и лежал спокойный, почти улыбающийся. Но ежеминутно приказывал наведываться не прибыл ли гонец от гетмана.
— Вижу его, — говорил он, — вижу! Едет… везет мне письма…
И он молитвенно поднимал руки к небу. По временам закрывал глаза, впадал в легкую дремоту, просыпался и что-то шептал… И так до поздней ночи, борясь с дремотой, он не хотел уснуть и ждал, пока не послышался стук у ворот, — знак, что гонец приехал.
Ксендз Ольшевский украдкой выбежал, чтобы вперед прочесть прибывшие бумаги, не зная, можно ли показать их королю. Он боялся, что в случае неблагоприятных известий, они могут дурно повлиять на состояние его здоровья.
Но собственноручное письмо гетмана было полно самых радужных надежд:
— Ручаюсь шляхетской и рыцарской честью, что разнесу турок… В их лагере такая теснота, что бегство невозможно. Знаю, что гетман Пац будет против битвы; но я должен, на нее решиться и должен победить, и отмщу за все поражения и трактаты… как Бог свят, отмщу, и победа наша!
Сияя радостью, холмский епископ вошел с письмом Собесского в спальню короля, который, с предвидением, часто свойственным больным, чуял душой прибытие гонца и требовал писем.
Молитвенно сложив руки, король приподнялся и сел, слушая письмо, а из глаз его струились слезы. На измученном лице отразилась глубокая внутренняя радость.
Он возвел очи горе и молвил:
— Ныне отпущаеши раба твоего, Господи!
Потом медленно соскользнул на подушки, послал подканцлеру благодарную улыбку и лег спокойно, как бы отошел ко сну… глаза его закрылись.
Все ушли и в комнате было слышно только его слабое дыхание.
Пани Келпш стала на колени к стулу и молилась…
Внезапно, среди тишины, раздался тяжелый вздох… она бросилась к постели…
Король был мертв.
Нечто в роде "повытчика".
"Не достоин есмь" (лат.).
С баца, с первого слова (лат.).
Монашеский или канонический час (лат.), вроде нашего "адмиральского часа".
Богу одному ведомо (лат.).
Если бы так (лат.).
Если басня не врет (лат.).
Так или иначе (лат.).
Король Болеслав Храбрый.
В латинском классическом смысле т. е. зависимых людей, наприм., должников, аренадаторов и т. п.
Прииди, Дух-Зиждитель! (лат.).
Итак (лат.).
Хлеб праведных тружеников (лат.).
О государственных делах? (лат.).
Единогласно (лат.).
Кс. Ольшовский.
Часы примитивной яйцевидной формы.
Несчастие для отечества — плач для Иеремии (лат.).
Ныне Медовая улица.
Беседа (итал.).
Христофора.
Преданная душа (лат.).
Что нового? (лат.).
Первые люди государства (лат.).