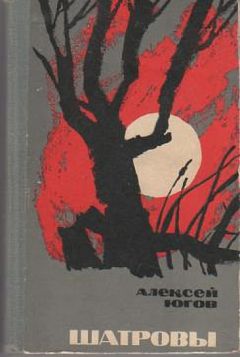И зноем и рекою веяло от него.
Чихнув от табачной пыли, рассеянной отцом Василием в воздухе, Арсений Тихонович рассмеялся, вынул платок, отер усы и весело, по-озорному вскричал:
— Ах ты, долгогривый черт!.. Он, видите ли, табачок изволит нюхать, а другие — чихай за него! Ну, погоди ж ты!
Он протянул руку к пышной, лоснящимися волнами ниспадающей на плечи гриве отца Василия, как бы запуская в нее руку:
— Эх, должно быть, и частенько, Лида, таскаешь ты его за волосы, благоверного твоего! Больно хороша у него шевелюра!
Он кинул взгляд на племянницу жены. Красавица попадья — глаза с поволокой, роток с позевотой! — только усмехнулась лениво в ответ на его слова. Вся в томной изнеге от зноя, дышащего в распахнутые окна гостиной, Лидия сидела, полуоткинувшись, растегнув у белоснежного, полного горла перламутровую пуговицу чесучовой кофты, слегка склонив набок светло-пышноволосую голову, с рассыпающимися из-под всех гребенок и заколок волосами цвета спелой пшеницы.
Неохотница до слов, она все ж таки, помолчав, изронила словечко:
— Он меня слушается.
Все рассмеялись.
А отец Василий, «львообразно» тряхнув гривою, протяжным басом пророкотал:
— Да-а!.. У меня власы, аки у Авессалома, сына Давидова: когда он стриг голову, повествует Библия, а он стриг ее, сказано, каждый год, потому что она отягощала его, то волоса головы его весили двести сиклей по весу царскому!.. Да-с, — повторил, — не как-нибудь, а по весу царскому!
Усмехаясь, обвел глазами гостиную.
Анатолий Витальевич Кошанский, с привычной своей манерой стареющего красавца шляхтича, моргнув длинным и вислым усом, спросил, приостановясь против отца Василия:
— Это что ж еще за царский особый вес? Интересуюсь как юрист.
— Сиречь — полный, безупречный.
— Ага, понимаю: без обвеса.
— Истинно.
И, ощутив прилив благодушнейшего настроения, батя продолжал с шутливым бахвальством:
— А посему, по причине сего благолепного пышновласия, еже и доныне чтится в народе, сказано о сем Авессаломе: «от подошвы ног его до верха головы его не было у него недостатка!»
Шатров только головой покачал:
— Ишь ты ведь, как вознесся батя!.. А впрочем, ничего не скажешь: красивый у тебя поп, Лидия, статный, видный. Не ревнуешь?
Попадья молча, с легкой ямочкой улыбки на тугой щеке, отрицательно повела головой.
Неожиданно вступил в шутливый этот разговор Кедров.
Лукаво покусывая кончик золотистого жиденького уса, исчезающего в такого же цвета, чуть-чуточной бородке, усмешливо покосился на отца Василия, — сверкнули стекла сбрасываемых по привычке очков — и промолвил, словно бы так, в полушутку, но словно бы и наблюдая, какое действие произведут его слова:
— А однако, отче, вы как будто соизволили утаить от нас кое-что о судьбе этого самого Авессалома, сына Давидова? Я понимаю, конечно, поелику сходство с этим библейским персонажем вы считаете, по-видимому, довольно-таки лестным для себя… Но… все ж таки утаиваете нечто!
— Утаиваю?.. Отнюдь!.. А впрочем, что именно вы подразумеваете, дрожайший Матвей Матвеевич? История Авессалома обширна…
И тотчас же смолк и покраснел почему-то. Кедрову показалось даже, что легкая дрожь передернула под шелком васильковой рясы тучные плечи отца Василия.
С полслова они поняли друг друга: о чем именно зашла речь.
— Вот, вот, я как раз это и подразумеваю: что довольно-таки дорого обошлись Авессалому эти двести сиклей его шевелюры!
Отец Василий, безмолвствуя, не перебивал, а лишь время от времени наклонял голову, как бы подтверждая правильность текста, который произносил Кедров, подражая чтению в церкви:
— «Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал». Тут, как гласит стих девятый главы восемнадцатой Второй книги Царств, настиг его Иоав и, если память мне не изменяет: «взял в руки стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе…» Да, да, «и вонзе я в сердце Авессалому».
Попадья Лидия всплеснула ладошками, широко раскрыла большие синие глаза:
— Боже мой, и зачем вы ужасы-то эти вспоминаете? И без того только то и слышишь, только то и слышишь!
Отец Василий супружески отмахнулся от нее. Вернул утерянное на мгновение свое обычное расположение духа, весело крякнул, прочищая голос, и, обратясь к собеседнику сказал:
— Да не будет сие припоминание ваше провещательно! Однако изумлен свыше меры: да уж не из духовного ли вы звания, Матвей Матвеевич? Скрываете?
— Ну, что вы! Вы же знаете: потомственный пролетарий!
— Однако столь нечастое среди светских знание Библии, и, как могу умозаключить, — церковнославянского… Откуда сие?
Кедров рассмеялся:
— Ну, это уж я столыпинским одиночным пенсионам обязан. Вам же известно: нам, особо избранным, тем, кто подлежал строгому тюремному заключению, подчас никакой другой литературы не дозволялось иметь, кроме Библии: надо полагать, ввиду закоснения нашего «во гресех»! А мы требовали Библию-полиглоту или же хотя бы русскую и французскую вместе. Русскую и немецкую. И таким манером многие из нас, тюремных завсегдатаев, достигали доброго знания иностранных языков. Из них же аз есмь!
— Так, так!
— Но и безотносительно к этому, сама книга… Прежде всего, как источник исторический, и, наконец…
Но здесь отец Василий, с привычной в таких случаях для него строгостью и даже обеими ладонями как бы отстраняя его слова, прервал Кедрова:
— Полноте, полноте, Матвей Матвеевич! Скажите лучше: богодухновенная книга. И не прекословьте!
Он вынул опять золотую свою табакерку и, совершая ритуальное свое нюхание, помогавшее ему обдумывать предстоящие слова, сказал, и пристально, и с какою-то пытливой тревогой всматриваясь в лицо Кедрова:
— А, однако, скажу я вам, достоуважаемый Матвей Матвеевич, трудно человеку быть совопросником вашим. Трудно! Слышал я вас однажды на митинге в цирке градском и, признаться, вчуже воскорбел душою за того помните? — эсера (отец Василий по-семинарски мягко произносил в этом слове «се»)… и меньшевичка, после коих вы изволили взять слово: тяжко им было, и тому и другому, быть совопросниками вашими… Восскорбел!
Потряс головою.
С напускной обидою в голосе накинулся на него шатровский юрисконсульт:
— А что ж за меня не «восскорбели», отец Василий? Что ж так? А я полагал, что наша партия — Народной свободы, членом коей имею честь быть, и вам в какой-то степени не чужда… политическим вашим воззрениям. А можно было и «восскорбеть»! Уж я ли, кажется, не многоопытен в словесном фехтовании, однако и мне в тот раз, на этом памятном митинге в нашем местном Колизее, такие пришлось получить удары от Матвей Матвеича, что некоторые из ран и до сих пор… напоминают о себе!
Обернулся в сторону Кедрова и этаким соколом, все с тою же барственной снисходительностью к собеседнику произнес:
— Но, ничего, милейший, мы еще скрестим с вами шпаги!
И оцепенел в растерянности от угрюмых, с нескрываемой неприязнью слов Кедрова:
— Боюсь, как бы не штыки!
Сказал — и смолк. Никому из этих людей не дано было знать — да и не надлежало! — что этот вот, почти всегда среди них молчаливый, чуть ли не застенчивый человек, этот еще недавно скромный «волостной писарек», как всем нутром его ненавидевший называл его за глаза Сычов, что человек этот только-только что возвратился с шестого, в глубоком подполье протекавшего съезда партии; что среди очень и очень немногих ему дано было посетить укрытого от кровавой расправы Ленина и что из его уст узнал он, что после третьеиюльских расстрелов должны быть оставлены все надежды на мирное развитие революции и что кровавая диктатура «окорнилевших» керенских, открыто подымающих вместо алого знамени черный флаг смертных казней, должна и будет низвергнута лишь вооруженным восстанием рабоче-крестьянских, солдатских масс, — что на очереди штыки!..
Обескураженный ответом, Кошанский замялся:
— Ну, что вы, что вы, дорогой мой… Я все же не такой пессимист!
Но уж спешил вмешаться сам Арсений Тихонович Шатров, в глубочайшем и постоянном своем убеждении, что священный, непререкаемый долг хозяина это ни в коем случае не допустить, чтобы размолвка гостей переросла в ссору:
— Господа, да хоть у меня-то в доме давайте побудем без штыков… без шпаг… без кровопролития!
И, желая отвлечь на другое, да и положась на благодушие своего родича, он вновь к нему и обратился голосом веселым и легким:
— Так что же ты, поп, вещал тут о Керенском?
Ох, лучше бы ему и не вступаться было, да еще с таким вопросом!
Минута — и, вопреки усилиям и воле хозяина, под этим гостеприимным семейным кровом безудержно зашумел один из тех неистовых, мятущихся споров, которые в те дни, в самых что ни на есть тишайших и дотоле кротких обиталищах, рушили навсегда родство и дружбу, — началось одно из тех словесных сражений, коими, но уж в поистине грандиозных размерах, полнились и сотрясались в ту пору залы всех общественных зданий города, а в особенности — округлошатровые, народоемкие здания цирков — столичных и провинциальных, — здания, которые словно бы через века и тысячелетия волею взбушевавших народных масс вдруг вернули себе их древнеримское и византийское назначение: быть не только ареной ристаний, конных и пеших, но и форумами словесных гражданских битв, порою кровавых, — местом яростной, стихийно-беспощадной борьбы партий, сословий, классов.