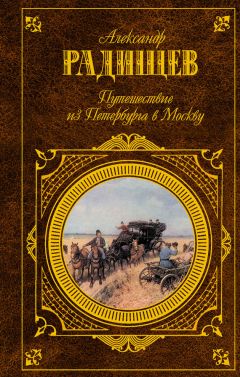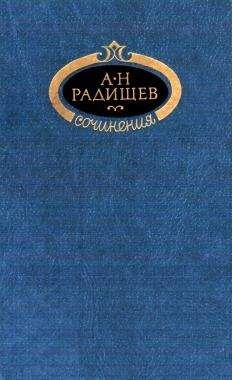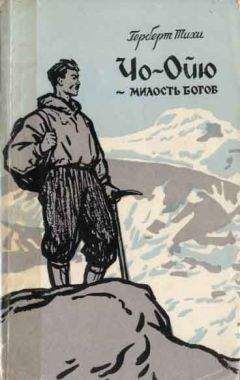Шелехов сделал паузу, словно обдумывая ещё какую-то важную мысль, занимавшую его. На лице мореходца отразилось напряжение и сосредоточенность. Он будто ожидал опровержения своей мысли и внутренне готовился отстоять её с присущей его практическому уму силой убеждения рачительного хозяина в предпринимаемых им делах государственной важности.
— Да, сие очень важно. Курс только на Курилы. Если земля российская — богатый дом, то острова Курильские — её сени. Разве будет спокоен хозяин, не ведая, кто может находиться в сенях?
Рубановская боялась проронить хотя бы одно слово, сказанное Григорием Ивановичем. Она слушала его с упоением и удовлетворением, которого давно не испытывала. Она видела перед собой человека дерзкой мечты и радовалась тому, что ей посчастливилось встретиться с ним и послушать его.
Радищев, тоже захваченный смелым полётом мечты Шелехова, думал о том, что изречение Михаилы Ломоносова «Колумб российский» как нельзя лучше относилось к мореходцу, словно было сказано о нём. Радищев верил и хотел, чтобы пророчество великого учёного мужа сбылось. Он снова вспомнил оду Ломоносова.
…Колумб российский через воды
Спешит в неведомы народы…
Он хотел прочитать её вслух, но удержался и лишь сказал:
— Я верю, Григорий Иванович, мечта твоя сбудется…
— Спасибо тебе на добром слове. — Шелехов приветливо посмотрел на Радищева, и взгляд его выражал тоже благодарность.
— Однако я долгонько задержался, увлёкся разговором, а в конторе торговой ждут дела, куча дел.
Григорий Иванович прошёл к вешалке, взял меховую шапку, пальто. Одеваясь, он сказал:
— Услышал в наместническом правлении, что уезжаете, и забежал попрощаться…
— Завтра трогаемся в путь, — подтвердил Радищев.
— Желаю счастья вам, друзья.
— За доброе пожелание сердечно благодарим, — сказала Елизавета Васильевна.
— Спасибо тебе, Григорий Иванович, что зашёл ко мне, а я ведь подумал…
— Знаю, — перебил его Шелехов, — потому и забежал, — смеясь, проговорил он, — у меня тонкий нюх, тянет туда, куда надо…
Он протянул обе руки Рубановской.
— Счастливо вам добраться.
— Ещё раз благодарю, — отозвалась Елизавета Васильевна.
Шелехов крепко сжал руку Радищева и неожиданно сказал:
— Спасибо тебе, Александр Николаевич, за тот разговор наш… Не забуду его. Чую, суждено тебе быть кормчим дальнего плавания нашего века… Мечты мои стали смелее, скажу тебе, не таясь, от твоей большой, недосягаемой для меня мечты…
Григорий Иванович низко раскланялся и оставил комнату Радищева.
— Чем ты, Александр, встревожил его душу? — поинтересовалась Елизавета Васильевна.
Радищев только сказал:
— В человеке надо ценить человека, а не судить о нём по купеческому званию да родословной…
6
С вечера договорились трогаться в Илимск поутру. Рассветным часом Радищев сидел на дорожном ящике и писал письма в Москву. К Елизавете Васильевне приходили ямщики, спрашивали, можно ли закладывать лошадей. Она просила их чуточку подождать. Александр Николаевич в эти минуты дописывал последние строки:
«…Прощайте, милостивый государь. Я иду велеть укладывать повозки… Мы едем дальше в Илимск…»
Елизавета Васильевна терпеливо ждала, когда Александр Николаевич закончит письмо, и обрадовалась его словам:
— Теперь всё! Собирайтесь! Трогаемся!
Радищев заклеил письмо, быстро накинул на плечи енотовую шубу и выбежал на двор…
В половине дня несколько подвод оставили усадьбу городской управы. Якутской улицей, мимо Девичьего монастыря, повозки двинулись к заставе. На передней подводе сидели унтер-офицер в тулупе и два солдата в овчинных полушубках. Унтер-офицер громко крикнул. Сторож заставы поднял полосатый шлагбаум.
За Якутской заставой дорога огибала Весёлую гору. С вершины её хорошо был виден город. За ним далеко на запад белели снежные тувинские гольцы, вправо синела незамерзающая Ангара, а за рекой поднималась семнадцатисаженная колокольня Вознесенского монастыря. Радищев обернулся. Он посмотрел прощальным взглядом на Иркутск и погрузился в раздумье. Переехали первый хребет. Лошади тяжело поднялись на второй. Александр Николаевич вновь оглянулся. С этого хребта хорошо виднелись горные кряжи на другой стороне Ангары.
Перевалили последний крутой подъём. Лошади легче побежали к Кудинской слободе. Теперь дорога пролегала красивой и широкой долиной речки Куда. Лесистые горы защищали путников от жгучего ветра. Ехать долиной было теплее.
Миновали последнее русское село Оёк на Якутской дороге. Задержались на почтовом стане, обогрелись и попили горячего чая. Остановка была короткой. Унтер-офицер поторапливал. Он предупредил, что ночевать придётся в Усть-Ордынском зимовье, до которого ехать было ещё далеко.
За Оёком горы перешли в равнину. Начались степи. Стали встречаться братские селения — летники и зимники. Это были бурятские улусы. Возле них вольно гуляли отары овец, стада коров и табуны лошадей.
На берёзах и высоких кольях виднелись вздетые козьи и лошадиные шкуры с черепами. Можно было разглядеть, как на них дрались вороны.
Вид шкур на кольях навеял грустные размышления о диком поверье бурят. Тревожная тоска снова защемила сердце Радищева. Что ждало его там, куда лежал этот последний путь?
Он вспомнил, как ещё из Тобольска писал Воронцову, что в неведомой ему Сибири «подле дикости живёт просвещение», теряющееся «в неизмеримых земельных пространствах и стуже». Теперь он сказал бы об этом значительно ярче и полнее.
К вечеру ветер стал злее. Серебристыми струйками вилась по степи позёмка. Дорогу перемело. Ехать становилось убродно. И когда приблизились к Усть-Ордынскому зимовью, от взмокших коней шёл пар. Над степью попрежнему проносились багровые облака. Возница, обтирая меховой рукавицей замёрзшие на усах сосульки, говорил:
— Завтра стужа будет страшнее…
Вокруг виднелись юрты. Буряты верхом на лошадях, с криком, загоняли баранов и рогатый скот в просторные дворы, обнесённые заплотом, чтобы ночью в степи их не зарезал дикий зверь.
Неумолчно лаяли собаки. Вокруг было дико и пустынно. Радищев подумал о жизни этих полукочевых народов. Сколько их, потомков воинственных мунгулов, имеют ещё такой же небольшой кров от непогоды, окружены дикими местами и, занимаясь скотоводством, всё своё благополучие видят в стадах?
Смеркалось, когда заиндевелые кони остановились у жилища бурята — содержателя усть-ордынского стана.
Александр Николаевич быстро поднялся из саней. Он подошёл к крытому возку Елизаветы Васильевны и помог ей, закутанной в меховые одеяла, выбраться наружу. Не желая будить спящих детей, Радищев перенёс их на руках в помещение стана.
В чёрной избе, освещенной сальной свечой, было душно. Постель разостлали на нарах. Елизавета Васильевна с Дуняшей сразу уснули. Радищев долго не спал. В углу избы, на скамье, полудремал солдат. Рядом с ним беззаботно храпел усатый унтер-офицер. Другой конвойный, завернувшись в тулуп, лежал возле камелька.
Александр Николаевич слушал, как грозно свистел ветер в ветхом оконце, составленном из кусков слюды. Сон не смыкал его глаз. На зорьке, когда тёмное оконце стало светлеть, унтер-офицер приказал собираться. Вскоре лошади были заложены и путь продолжался.
Дорога лежала между затерявшимися в лесу бурятскими улусами и зимовьями. Здесь редко встречались дома русских земледельцев. Возле одного из них путники остановились, желая обогреться, но их предупредили, что в доме умер хозяин и постоя нет.
— Почему не въезжаем во двор? — спросила Елизавета Васильевна Радищева. Александр Николаевич пояснил. Рубановская перекрестилась и с жалостью подумала о семье умершего.
Лошади тронулись дальше — до почтового зимовья Манзурки. В этот же день путники добрались до деревни Качуг и заночевали. Здесь была пристань. Отсюда грузили и плавили хлеб в Якутск. От Качуга дорога шла по льду Лены. Река была сжата высокими и обрывистыми берегами. Они поросли сосняком, лиственницами в елями. От бывшего острога Верхоленска, города без ратуши, чаще стали встречаться вперемежку русские и бурятские то сёла, то слободки, то деревни или заимки в два-три небольших домика. Здешние жители занимались хлебопашеством, рыбной ловлей и охотничьим промыслом.
Ниже станка Усть-Илги стоял пограничный столб. Здесь кончался Иркутский округ и начинался Киренский, в который входил Илимский острог.
Иногда дорога сворачивала с реки и тянулась берегом. В этих местах, на перекатах, Лена не замерзала и полыньи дымились туманом. Берега реки были крутые. Плиты красного песчаника рёбрами выступали на утёсах и ярах. У Шаманского камня, отвесно торчащей скалы над рекой, на вершине которой сосна казалась маленькой веткой, обогнали обоз с товарами, идущий на Киренск.