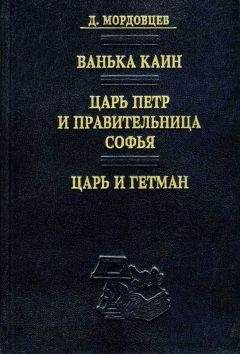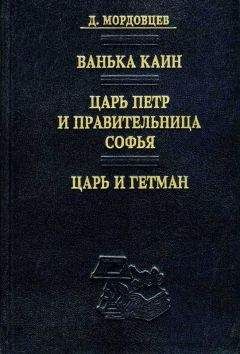При этих словах письма царь нервно тряхнул головой, так что волосы на ней задрожали…
— Ого! Я перед тобой… мою корону!.. Нет, я тебя и из Турции вышвырну, бродяга!
И царь снова начал читать:
«… корону перед ноги низложил; но ныне так я бегу, чтоб мог только уйтить, понеже собственная моя корона через сей бой подвизается…»
— Сие воистину, — вставил Меншиков.
«Но куда мне побежать? (продолжал царь). Где могу покой сыскать? Понеже я ныне далеко от земли моей обретаюсь. Только б ныне волохи могли бы меня провесть, инакож я несчастливый и с моею землею погиб. Но, орел, объяви мне как хощешь, чтоб я поклонился, понеже ты через сей бой надо мною мастером стал. Приходи, Август, приходи паки назад в Польшу, понеже сия корона по достоинству прямая твоя. Но ты, Станислав! Я был твой приятель, пока я силу имел и тебе помочь мог; но ныне то миновалось: можешь ты только сии вести прочесть, как я ныне мастера своего в великом царе сыскал, того ради последуй моему совету, ляг пред королевскими ногами и проси, чтоб он тебе паки милостив был, а ты себе избери чернической монастырь, ибо сей бой нам есть временная адская мука. Прощаясь, я ныне принужден чрез чужую землю иттить, ибо нового пути в свою землю искать имею. Моя болезнь ныне всему свету известна, что я ныне кричать принужден: О горе! О горе! Моя нога!»[9]
Царь, повертев письмо в руках, бросил его в кучу с другими бумагами.
— Старика Палия сим письмом в обман ввели, — сказал он, — оно сочинено малороссийскими ласкателями, понеже малороссийские люди преострые сочинители и хорошего и дурного — уж так у них в крови.
Скоропадский ему доносил тут же, что «вероломец и Иудин брат Ивашка Мазепа в турецкой земле аки пес скаженый здох».
— Умер Мазепа, — сказал царь вслух.
При этих словах Ягужинский, подававший царю пакеты, так вздрогнул, что уронил пакет.
— Что, Павел? — спросил царь участливо. — Ее, верно, вспомнил… Забыл, как ее зовут…
— Мотря, государь, — отвечал тихо Ягужинский, бледный и не поднимая глаз.
— Да-да, Мотренушка — вспомнил! — продолжал царь. — Помни, Павел, что я у тебя в долгу…
Ягужинский молчал, только бумаги в руках его дрожали.
— Обещал тебя женить на этой отроковице, так вон она ушла в Турцию с Мазепой и Карлом… Ну, не печалься, Павлуша: на следующий год я достану — себе Карла, а тебе — оную отроковицу…
Но царь и тут остался в долгу у своего Павлуши: Прутский поход 1711 года доказал, что ни Карла, ни отроковицу достать нельзя…
Скоропадский в письме своем добавлял, что его «малжонка Анастасия повергает к подножию ног его царского величества бочку варения киевского сухого цукрованного, оные Анастасии руками власными на здравие царского пресветлаго величества сваренного».
«У! Ловкая баба, — подумал Петр, — она трижды умнее своего колпака — мужа… да такой там нам надобен…»
Осматривая затем корабль, царь увидел, что на мачте, словно белка, с реи на рею перескакивает какой-то молоденький белокурый юнга, укрепляя снасти. Царя заняла эта ловкость и смелость.
— Ты кто такой? — крикнул он на мачту.
Двуногая белка в несколько мгновений соскользнула с мачты и уже стояла перед царем в струнку, смело похлопывая глазами.
— Юнга вашего царского величества! — бойко сказал мальчик, которому на вид было лет четырнадцать, а то меньше.
Царь улыбнулся.
— А как зовут? Какова фамилия?
— Симка Крохинский, ваше царское величество! — по-прежнему бойко ответил мальчик.
— А! — царь что-то вспомнил и глаза его блеснули. — Это ты тогда в Шлиссельбурге первый российский корабль из лаптя соорудил и онучкой оснастил?
— Я, ваше царское величество!
— Молодец-молодец! Помню… А потом?
— Потом в московском навигаторском училище учился…
— Кончил с доброю аттестациею?
— С аттестациею «оптиме», ваше царское величество!
— Зело рад… — И лицо царя действительно выражало живую радость. Блестящими глазами он посмотрел на Меншикова и Ягужинского. — А, смердий сын, землекоп, — а теперь вон что! — быстро говорил царь, любуясь мальчиком и его льняными кудрями. — Теперь тебя за море, в немецкие и голландские страны вместе с боярскими детьми доучиваться пошлю… А там — что Бог устроить соизволит…
Но почему-то сейчас же вспомнился «сынок — Алеша дурачок», а тут же и «сестрица Софьюшка — зелье московское», и «постылая царица Авдотья», и московские «бороды», разбитые триста семнадцать колоколов… А тут и «Катеринушка» — давно ее не видал… а может быть, и «шишечка» скоро будет…
…………………………………………………
Итак, гетмана Мазепу похоронили. Царь мечтает о будущем величии Российской державы…
Кого же еще желательно было бы вспомнить? Палия и Мотреньку? Да, их. Палий сам умирал на руках своей мужественной жены, когда получил известие о смерти Мазепы.
— О, отыде дух лукавый… отыде, — бормотал умирающий. — Я найду его там и приведу на суд к престолу Божию, яко ворога и погубителя матери нашея Украины… И онаго старца словенина Крижанича Юрия обрету у Господа, за народы словенские молящася… А теперь прощай, жинко, прощай, Охриме… Я отхожу з Украины…
Он сильно в последний раз дохнул и потушил восковую свечку, теплившуюся в его холодеющих руках… Потухла и его свечка жизни.
И Мотренька умерла на своей милой Украине, в Диканьке… Ей удалось поцеловать те места, где ступали когда-то старые ноги проклятого, но ей дорогого человека… Да, верно, батьку Тарасе:
Дурни — дурни люде!..
В Полтаве и до сих пор показывают могилу Мотреньки.
Конец
Краткий словарь забытых слов
бекет — пост, отводной караул.
голосный — громкий, звучный, шумный, зычный.
драбант, трабант — телохранитель, назначаемый во время сражения.
жарты — шутки.
зябель — зяблый, мерзлый хлеб; нива, гряды, плоды, побитые морозом.
капшук — мешок, киса, калита.
кий — палка, посох, костыль.
коча — палубное двумачтовое морское судно, поменьше ладьи.
крук — ворон.
несутерпчивый — нетерпеливый.
очкур(а) — пояс, шароварная опояска с застежкой, пряжкой или продернутая.
пахолок — малый, парень, работник, батрак.
полуница — клубника.
прелиминарный — предварительный, приготовительный.
свайка — толстый гвоздь или шип с большой головкой (для игры в свайку).
сирома(ха) — сирота, бесприютный человек, бедняк, бобыль.
скарать — (по)карать.
туюс, туяс — то же, что туес, т. е. берестяной кузов, короб.
урекать — то же, что упрекать, корить, поминать лихом.
щадроватый (щадровитый) — рябой.
Даниил Лукич Мордовцев (1830–1905), автор трех только что прочитанных вами произведений, оставил после себя огромное литературное наследие — более сотни томов исторических романов, повестей, рассказов, научно-популярных монографий и публицистических статей. В начале XX в. он был видной фигурой в литературном мире. В 1905 г., незадолго до кончины писателя, литературная общественность торжественно отметила в Петербурге полувековой юбилей его творчества. О Мордовцеве до и после 1917 г. написаны десятки статей, несколько книг, и есть даже диссертация, посвященная его историческим взглядам. Таким образом, для науки это имя никогда не было забытым. Однако уже многие десятилетия всякий очерк жизни и творчества Мордовцева открывается, как правило, словами: «обойденный критикой писатель», «ныне читателю неизвестный», труды его «незаслуженно перешли в разряд полузабытого наследия» и т. п.
Интересно вспомнить, что книги Мордовцева некогда вызвали острую полемику. Историк — беллетрист, он среди пишущих в этом жанре был менее всего историком. И как представляется, даже не столь много был и писателем. Существеннее всего для него были общественно-важные идеи, символы, близкие современной Мордовцеву российской действительности. Иными словам, более всего он был публицистом, на всем его творчестве — яркий след публицистичности. Его лучший, прогремевший на всю Россию, переизданный после революции трижды роман «Знамения времени» (1870) был, как тогда говорили, «из истории прогрессивной интеллигенции». О «Знамениях времени» В. Г. Короленко писал: «Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора».
Несомненна замечательная способность писателя легко соединять в своих книгах «век нынешний и век минувший». Главным предметом его интереса были эпохи, когда основным лицом исторического действия становился не царь, не полководец, словом, не какой-либо отдельный герой, а весь народ. Об этом ясно говорят уже сами названия произведений: «Самозванцы и понизовая вольница», «Пугачев», «Гайдамачина», «Великий раскол». Язык его носит признаки одновременно «архаического», высокого стиля и демократичности, близости к народной речи. Критика, впрочем, не раз упрекала Даниила Лукича в том, что слова, которыми изъясняются герои его произведений, «подслушаны у извозчиков».