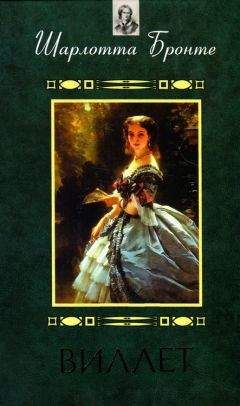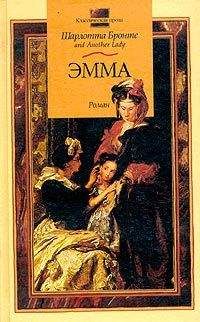— Mais certainement, chou-chou, vous en aurez deux, si vous voulez.[198]
И со свечой в руке я тихонько пошла в спальню. К великой своей досаде я обнаружила в постели захворавшую воспитанницу и еще более опечалилась, узнав под батистовыми сборками чепчика черты мисс Джиневры Фэншо. Правда, она лежала тихо, но во всякую минуту могла обрушить на меня град своей болтовни. И в самом деле, веки ее дрогнули под моим взглядом, убеждая меня в том, что недвижность эта лишь уловка и она зорко за мною следит, но я слишком хорошо ее знала. А до чего же хотелось мне побыть наедине с бесценным письмом!
Что ж, оставалось идти в классы. Нащупав в заветном хранилище свой клад, я спустилась по лестнице. Неудачи меня преследовали. В классах при свечах наводили чистоту. Как было заведено, делалось это раз в неделю. Скамейки взгромоздили на столы, столбом стояла пыль, пол почернел от кофейной гущи (кофе потреблялся в Лабаскуре служанками вместо чая) — беспорядок совершенный. Растерянная, но не сломленная, я отступила в полной решимости во что бы то ни стало обрести уединенье.
Взявши в руки ключ, назначенье которого я знала, я поднялась на три марша, дошла до темной, узкой, тихой площадки, открыла старую дверь и нырнула в прохладную черную глубину чердака. Я решила, что здесь-то уж никто меня не застигнет, никто мне не помешает — никто, даже сама мадам. Я прикрыла за собой дверь, поставила свечу на расшатанный ветхий поставец, закуталась в шаль, дрожа от пронизывающего холода, взяла в руки письмо и, сладко замирая, сломала печать.
«Длинное оно или короткое?» — гадала я, ладонью стараясь отогнать серебристую мглу, застилавшую мне глаза.
Оно было длинное.
«Холодное оно или нежное?»
Оно было нежное.
Я не ждала многого, я держала себя в руках, обуздывала свое воображение, и оттого письмо мне показалось очень нежным. Я измучилась ожиданием, истомилась, и поэтому, верно, оно мне показалось еще нежней.
Надежды мои были так скромны, а страхи так сильны! Меня охватил такой восторг сбывшейся мечты, каким мало кому во всю жизнь хоть однажды дано насладиться. Бедная английская учительница на промозглом чердаке, читая в тусклом неверном свете свечи письмо — доброе, и только, — радовалась больше всех принцесс в пышных замках, ибо мне эти добрые слова показались тогда божественными.
Разумеется, столь призрачное счастье не может долго длиться, но покуда длилось — оно было подлинно и полно; всего лишь капля — но какая сладкая капля! — настоящей медвяной росы. Доктор Джон писал ко мне пространно, он писал с удовольствием, выражал благосклонное ко мне отношение. Он весело припоминал сцены, прошедшие перед глазами у нас обоих, места, где мы вместе побывали, и наши беседы, и все маленькие происшествия блаженных последних недель. Но самым главным в письме было то, что наполняло меня восторгом, — каждая строка его, веселая, искренняя, живая, говорила не столько о добром намерении меня утешить, сколько о радости писавшего. Быть может, такого чувства он уже не сможет испытать — я об этом догадывалась, более того, была в этом убеждена, — но то в будущем. Настоящий же миг оставался не омрачен, чист, не замутнен; совершенный, ясный, полный, он осчастливил меня. Словно летящий мимо серафим присел рядышком, склонясь к моему сердцу, сдерживая трепет утешных, целящих, благословенных крыл. Доктор Джон, впоследствии вы причинили мне боль, но да простится вам все зло — от души вам прощаю — за этот бесценный миг добра!
Правда ли, что злые силы стерегут человека в минуты счастья? Что злые духи следят за нами, отравляя воздух вокруг?
На огромном пустом чердаке слышались странные шорохи. Среди них я точно различала словно бы тихие, крадущиеся шаги. Казалось, что со стороны темной ниши, осажденной зловещими плащами, ко мне подбирался кто-то. Я оглянулась; свеча моя горела тускло, чердак был велик, но — о Господи, спаси меня! — я увидела посреди мрачного чердака черную фигуру: прямое узкое черное платье, а голова окутана белым.
Говори что хочешь, читатель; скажи, что я разволновалась, лишилась рассудка, утверждай, что письмо совсем выбило меня из колеи, объяви, что мне все это приснилось, но клянусь — я увидела на чердаке в ту ночь образ, подобный монахине.
Я закричала, мне сделалось дурно. Приблизься она ко мне — я бы лишилась чувств. Но она отступила; я бросилась к двери. Уж не знаю, как одолела я лестницу. Миновав столовую, я побежала к гостиной мадам. Я буквально ворвалась туда и выпалила:
— На чердаке что-то есть. Я там была. Я видела. Пойдите все, поглядите!
Я сказала «все», потому что мне почудилось, будто в комнате множество народу. Оказалось же, что там всего четверо: мадам Бек, мать ее, мадам Кинт, дама с расстроенным здоровьем, гостившая у нее в ту пору, брат ее, мосье Виктор Кинт, и еще какой-то господин, который, когда я влетела в комнату, беседовал со старушкой, поворотившись к дверям спиной.
Верно, я смертельно побледнела от ужаса; я вся тряслась, меня бил озноб. Все четверо вскочили со своих мест и меня обступили. Я молила их подняться на чердак. Заметив незнакомого господина, я осмелела — все же спокойней, когда около тебя двое мужчин. Я обернулась к двери, приглашая всех следовать за мной. Тщетно пытались они меня урезонить; наконец я убедила их подняться на чердак и взглянуть, что там. И тогда-то я вспомнила о письме, оставленном на поставце рядом со свечою.
Бесценное письмо! Как могла я про него забыть! Со всех ног я бросилась наверх, стараясь обогнать тех, кого сама же и пригласила.
И что же?! Когда я взбежала на чердак, там было темно, как в колодце. Свеча погасла. К счастью, кому-то — я полагаю, это мадам не изменили спокойствие и разум — пришло в голову захватить из комнаты лампу; быстрый луч прорезал густую тьму. Но куда же подевалось письмо? Оно теперь больше меня занимало, чем монахиня.
— Письмо! Письмо! — Я стонала, я задыхалась. Я ломала руки, я шарила по полу.
Какая жестокость! Средствами сверхъестественными отнять у меня мою отраду, когда я не успела еще ею насладиться!
Не помню, что делали остальные, я их не замечала; меня расспрашивали, я не слышала расспросов; обыскали все углы; толковали о беспорядке на вешалке, о дыре, о трещине в стекле на крыше — бог знает о чем еще.
«Кто-то либо что-то тут побывало» — таково было мудрое умозаключение.
— Ох! У меня отняли мое письмо! — не в силах успокоиться, вопила я, как одержимая.
— Какое письмо, Люси? Девочка моя, какое письмо? — шепнул знакомый голос прямо мне в ухо.
Поверить ли ушам? Я не поверила. Я подняла глаза. Поверить ли глазам? Неужто это тот самый голос? Неужто передо мной лицо самого автора письма? Неужто передо мной на темном чердаке — Джон Грэм, доктор Бреттон собственной персоной?
Да, это был он. Как раз в тот вечер его позвали пользовать бедную мадам Кинт; он-то и разговаривал с нею в столовой, когда я туда влетела.
— Речь о моем письме, Люси?
— Да, да, о нем. О письме, которое вы мне писали. Я пришла сюда, чтоб прочесть его в тишине. Я не нашла другого спокойного места. Весь день я его берегла — я его не открывала до вечера. Но я едва успела его пробежать. Неужто я его лишусь?! Мое письмо!
— Тш-ш! Зачем же так убиваться? Полноте! Пойдемте-ка лучше отсюда, из этой холодной комнаты. Сейчас вызовут полицию для дальнейших розысков. Нам ни к чему тут оставаться. Давайте спустимся в гостиную.
Мои закоченелые пальцы очутились в его теплой руке, и он повел меня вниз, туда, где горел камин. Мы с доктором Джоном сели у огня. Он успокаивал меня с несказанной добротой, обещал двадцать писем взамен одного утраченного. Бывают слова обиды острыми как нож, и раны от них, рваные и отравленные, никогда не заживают. Но бывают и слова утешения столь нежные, что отзвуки от них остаются навсегда, и до гробовой доски не умолкают, и тепло их не стынет и согревает тоскующую душу до самой смерти. Пусть говорили мне потом, что доктор Бреттон вовсе не так прекрасен, как я вообразила, что душа его лишена той высоты, глубины и широты, какими я наградила ее в мечтах. Не знаю: он для меня был как родник для жаждущего путника, как для иззябшего узника — солнце. Я считала его самым замечательным. Таковым он, без сомненья, и был в те минуты.
Он с улыбкой спросил меня, отчего мне так дорого его письмо. Я не сказала, но подумала, что оно мне дороже жизни. Я ответила только, что не так уж много я получала на своем веку милых писем.
— Уверен, вы просто не прочитали его, вот и все, — сказал он. — Иначе не стали бы так о нем горевать!
— Нет, я прочитала, да только один раз. Я хочу его перечесть. Как жалко, что оно пропало! — Тут уж я не удержалась и снова разразилась слезами.
— Люси, Люси, бедненькая! Сестричка моя крестная! (А существует ли такое родство?) Да вот оно, вот оно, ваше письмо, нате, возьмите! Ах, если б оно стоило ваших слез, соответствовало бы такой нежной безграничной вере!