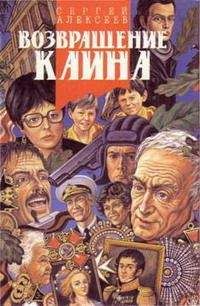— Милый папочка! Спасибо тебе! Прости, что я тогда на вокзале обидела тебя! Давай все-все забудем! Спасибо тебе, родненький!
Аристарх Павлович был рад и изумлен:
— За что же — спасибо?
— За деньги!
— Какие деньги?
— Те, что ты прислал, двадцать миллионов! — сверкала от счастья Наташа. — Я уже купила квартиру! И приглашаю всех на новоселье!
— Я не присылал денег, — растерянно признался Аристарх Павлович. — Кто тебе их принес?
— Как — кто? Братец Алеша! — засмеялась дочь. — Ну что ты меня разыгрываешь, пап? Я знаю, ты любишь делать сюрпризы…
— Я тебя не разыгрываю, — вымолвил Аристарх Павлович. — Когда Алексей был у тебя?
— В прошлую субботу, — веселость Наташи постепенно исчезала. — Принес наличные деньги. Мне и Ире, по двадцать миллионов. Сказал, что ты прислал на квартиру.. Он такой добрый, братец Алеша…
— Значит, он вам принес сорок миллионов?
— Да…
— Не понимаю, что творится, — окончательно растерялся Аристарх Павлович.
— Ой, а что у нас творится! — вдруг вспомнила Наташа. — По Центру не проедешь, баррикады, люди, милиция…
— Что хоть он говорил? — перебил ее Аристарх Павлович. — В Беларусь ехать собирался?
— Не знаю, у него были какие-то важные дела, — сказала дочь. — Он спешил… Сказал, что ты прислал деньги на квартиру, и все. Еще сказал, чтобы его позвали на новоселье… Папа, он что-нибудь не так сделал?
— Не мне судить — так, не так, — отозвался Аристарх Павлович. — Где искать его? Где он остановился в Москве?
— Кажется, нигде. Он собирался куда-то ехать…
— Куда ехать, если отдал деньги? С чем ехать?
— Не сердись, папа, я ничего не знаю, — Наташа уже чуть не плакала. — Алеша очень хороший человек, и я рада, что у меня теперь есть старший брат. Мы с Ирой не дадим его в обиду.
— Никто его обижать не собирается! — Аристарх Павлович вдруг разозлился. — Для вас он добренький! А на меня все хозяйство свалил, а сам неизвестно чем занимается! Все разлетелись, у каждого свои дела… Без оборудования погноим чужое добро — в трубу вылетим! Да еще народ голодным оставим…
— Папочка, а мы с Ирой тоже хотим открыть ателье мод, — призналась дочь. — У Иры же есть квартира, так что мы двадцать миллионов сэкономили. Половину положили в банк на депозит, — а на вторую половину купили швейные машины и ткани. Сами будем моделировать одежды для богатых людей. Ты телевизор смотришь? Там сейчас фильм идет, «Просто Мария». Вот посмотришь, через три года мы с Ирой будем как Мария. Ведь у нас все так похоже… Для богатых шить очень выгодно! Это будут такие экстравагантные платья! Такие потрясающие наряды! И только в одном экземпляре! Московские модницы готовы платить любые деньги! А знаешь, как мы назвали фирму? Просто «Мария»! Тебе нравится?
— Нравится, — безразлично ответил Аристарх Павлович.
— Мы помещение арендовали! — с восторгом продолжала Наташа. — Знаешь, пап, так повезло, почти бесплатно. В проезде Серова есть небольшой особнячок, там музей-квартира, какая-то знаменитость жила. А денег на ремонт у музея нет. Так мы сами отремонтируем все здание, а за это займем половину первого этажа, почти сто метров полезной площади, в центре города!
В это время пришла Валентина Ильинишна, тихо сняла плащ и ушла на кухню, чтобы не мешать. Аристарх Павлович, давно мечтавший сделать дочерям сюрприз — неожиданно представить молодую жену, сейчас понял, что ничем Наташу не удивить, да и удивлять не хотелось: в ее глазах он видел иное любопытство, иной интерес, никак не связанный с его жизнью. Она была еще родная, каждый ее пальчик был дорог и обласкан, каждая кудряшка на лбу обцелована; еще щемило душу от ее голоса, от смеха, но уже одновременно во всем этом чувствовалось незримое отчуждение. Они были еще рядом, но разговаривали словно через вагонное стекло, и нельзя было прикоснуться к тем пальчикам, кудряшкам, и минута расставания была отмерена отправлением поезда…
— Теперь все спрашивают: как это вам удалось найти такое помещение? За символическую плату? — продолжала она с восхищением — В Москве цены ужасные!.. А дело в том, что коренные москвичи совершенно непредприимчивые люди и к тому же ленивые. Вот они все время нас презирали — лимита! Лимита! Мы вроде негров были, второй сорт. Теперь посмотри, кто из нас лучше живет? Кто тянет на себе весь бизнес? А они, вместо того чтобы работать, на демонстрации ходят да орут, все им плохо, всем они недовольны. Вырожденцы какие-то, мало их милиция лупит… Нет, правда, они привыкли жить за счет лимиты. Мы им строили, мы их кормили, а они — по театрам, по выставкам.
— Кто — они? — переспросил Аристарх Павлович, теряя нить ее размышлений.
— Коренные москвичи!.. Ты почему меня не слушаешь?
— Я слушаю…
— Музей этот довели до такого состояния — не высказать, — вновь вдохновилась она. — В конюшне лучше. И они еще хвастаются своей культурностью!.. Мы с Ирой за месяц отштукатурим, покрасим и откроемся. Особняк старинный, поэтому и обставить его нужно стариной, чтобы выдержать стиль. Это же будет не просто ателье, а салон. Там другие требования… Папа, ты нам отдай старую мебель и посуду. У вас тут она все равно без толку стоит. Кто ее видит? А мы перетяжку сделаем и обставим ею салон, чтоб фирма была, без подделки. Павловской мебели и посуды уж точно нет ни в одном салоне в Москве!
— Отдать? — Аристарх Павлович соображал трудно. — Да ведь мебель не наша и посуда… Все же досталось вместе с домом.
— У тебя, папочка, все не наше! — заметила дочь. — Что ты все время скупишься? Алеша вот пришел и принес деньги… Не чужим отдаешь, своим дочерям.
— Не знаю… Посоветоваться надо с Алешей.
— Он отдаст! Я уверена! Ну, пап… У вас же много еще. Вся мебель бабушки Полины вам досталась, — Наташа готова была расплакаться. — Тебе жалко, да?
— Не жалко… Но я столько лет берег ее, в самое трудное время из дому ничего не выносили, — пытался объяснить Аристарх Павлович, но услышав сам себя, замолк, потому что стал противен себе — не говорил, а мямлил. И как обычно бывало в такие минуты, ощутил резкий толчок буйной решительности.
— Сейчас такое время, папочка, — всхлипнула дочь. — Такое время… Самые черные дни!
— Забирай! — рубанул Аристарх Павлович. — Раз черные дни — выноси!
— Посуду я сейчас соберу и упакую в коробки, — Наташа засуетилась. — А мебель вынесем, когда машина подойдет. Я с «уазиком» договорилась, недорого и все войдет.
Из кухни вышла Валентина Ильинишна, присела рядом с Аристархом Павловичем, погладила его руки, прошептала:
— Не жалей, ничего не жалей. Не мучайся больше.
Он обнял ее и замер. Сразу стало легко и тихо на душе, как бывало во время сиюминутных свиданий, рожденных воображением. Весь мир как бы отдалился от них, суетный и грешный, хлопотал о земном, звенел посудой и все что-то спрашивал, но все уже воспринималось будто сквозь стекло отходящего поезда. Ничего было не жаль, ни о чем не болела душа, и смиренный разум наслаждался покоем.
Только почему-то текли слезы, но так бывает при расставаниях — не хочешь плакать, а плачешь…
С тех пор как на аэродроме появились люди, жеребчик выходил на взлетную полосу лишь поздним вечером либо ранним утром, на восходе солнца. Лесная теснота угнетала его, и тут, вырвавшись на простор, он ощущал приятную истому мышц, но не летел сломя голову, как бывало в жеребячьем возрасте, а сначала разогревался неторопливой рысью, бежал, высоко вскинув голову и чутко выслушивая пространство. Он как бы наслаждался предвкушением вольного, стремительного бега и оттягивал эту счастливую минуту. На легкой рыси он готовил свое тело к старту — освобождался от помета, от лишнего воздуха в кишечнике, и когда набитое травою за день брюхо становилось бесчувственно-невесомым, он переходил на крупную рысь и через пот выбрасывал лишнюю воду из мышц. И когда тело становилось горячим и легким, как искра, взрывная сила вскидывала его над землей и бросала вперед. Важно было лишь поддерживать это горение; чуть-чуть касаясь копытами земли и получая от нее новый толчок энергии, увеличивать силу взрыва до бесконечности. Он вовсе не ощущал никакого напряжения и никогда не выкладывался до изнеможения, как кажется человеку, а лишь перевоплощал энергию мышц в движение, одновременно от движения получая новую энергию. И пена, выступавшая на шерсти, говорила о том, что вскипает кровь в жилах, что достигнута высшая степень горения, которая может продолжаться бесконечно.
То есть до смерти. Ибо он был из породы коней, умирающих на скаку. Он не знал еще ни седока, ни шенкелей и удил, но и абсолютно вольный, он как бы нес в себе родовой, унаследованный с кровью рок. И окажись сейчас на взлетной полосе достойный соперник, он бы и без человеческой воли вскипятил свою кровь. В его породе не было коней плохих или хороших, но каждому роком была отмерена та точка кипения, которую он способен достичь, прежде чем разорвется сердце. И насколько высока она была — в этом заключалось величие и знаменитость его единородцев.