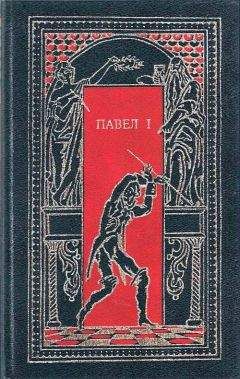— Miseria! Miseria! — повторяла императрица, склонив прекрасную голову на руку. И ее слова странно и мрачно звучали в этом великолепном дворце ее супруга, неограниченного повелителя великой империи, многомиллионной, неизмеримой. Императрица стала вспоминать посещение Страсбурга Марией Антуанеттой, в 1770 году, тогда еще счастливой «Madame de dauphine».
— Пойдем, я покажу тебе розу из ее букета. Она хранится в моем «herbier de souvenir»!
Императрица, не останавливаясь, провела Евгения через огромный кабинет, обремененный украшениями и художественными предметами до такой степени, что они утомляли глаза, и не обличавший никакого признака обитания его хозяйкой.
Столь же быстро прошли они и парадную спальню с мраморными, ослепительными стенами, где за балюстрадой из массивного серебра стояла кровать, украшенная богатой вызолоченной резьбой, под светло-голубым балдахином с серебряными кистями. При низкой температуре покоя надо было в самом деле принадлежать к бессмертным Олимпа, привыкшим почивать в облаках, чтобы пользоваться этой спальней. Коринфские колонны поддерживали лазурный купол покоя. Между колоннами стояли голубые бархатные диваны, и в стены вделаны были цельные огромные зеркала. Замечателен был карниз спальни, расписанный арабесками на золотом полированном фоне.
Принц Евгений был поражен всей этой красотой, но едва успел окинуть взглядом великолепие олимпийского чертога, так быстро шла императрица, спеша в «жилой» покой. То была ее рабочая комната, вся отделанная белым деревом, и потому менее доступная сырости. Книжные шкапы и комоды были из лучшего красного и душистого розового дерева.
Середину комнаты занимал письменный стол.
Показав мальчику розу из букета «Madame de dauphine» 1770 года, сморщенные лепестки которой ничего ровно не сказали ему, императрица повела принца знакомиться с кузинами, в соседнем покое занимавшимися под присмотром самой строжайшей, величественной гофмейстерины Ливен, которая показалась принцу злым грифоном. Великие княжны Мария и Екатерина, которых сторожил этот старый грифон, были истинно прекрасны, как Грации. Они обошлись с очаровательной приветливостью с гостем, но все время графиня Ливен не спускала с него грозного, испытующего взгляда, видимо, находя, что принц плохо воспитан, слишком развязан, мужиковат. Взвешивая каждое его слово и каждое движение, гофмейстерина, видимо, все осуждала и зловеще качала головой. Как мало походила она на ворчливых, но добродушных и любящих придворных старушек замка Монтбельяра, о которых только что рассказывала императрица. Мальчик скоро почувствовал себя связанным по рукам и ногам ядовитыми взорами грифона. Ему казалось, что графиня Ливен опутывает его невидимой сетью; он становился все более неловок, угловат и оглядывался на графиню исподлобья.
Заметив это, императрица повела его на половину великого князя Александра и его супруги Елизаветы, чтобы познакомить и с ними.
Великие княжны, с видом остерегаемых драконом античных нимф, кротко простились с кузеном. Опять начались сказочно великолепные покои. Гостиная великой княгини Елизаветы была обтянута лионской материей; две прекрасные колонны олонецкого мрамора, красного с белым, украшали нишу; около нее были две мраморные статуи: горюющая женщина, подпершая голову рукой, и молодая девушка, играющая с голубем. Смежный кабинет весь был в зеркалах с мебелью, обтянутой розовым бархатом. Трудно описать отрадное и успокоительное впечатление, которое производило это убранство. И комната была жилая. Письменный стол, покрытый книгами, и фортепиано доказывали, что не одна муза нашла здесь себе приют. Но в спальне уже невозможно было жить, несмотря на дивное убранство ее. Здесь господствовала такая сырость, что Елизавета несколько раз от нее заболевала, тем более, что спальня была почему-то смежна с огромной залой антиков, в которой стояло до сотни статуй, бюстов и саркофагов. Все это немое население залы тревожило воображение Елизаветы и, когда ее душил кошмар под влиянием сырости спальни, герои и олимпийцы процессией входили к ней, брали ее и клали в скульптурный саркофаг, готовясь прикрыть крышкой, или самое ее помещали, превращенную в мрамор, на крышке саркофага…
Елизавета и Александр, оба юные, златокудрые, прекрасные не менее императрицы и великих княжон, напоминали олимпийцев в земном изгнании. Сколько доброты и любезности светилось во взорах Александра! Как мила была Елизавета в греческой тунике с золотой широкой бахромой, с высоко под прелестной девственно округленной грудью опоясанным блестящим эшарпом стройным станом, с цветами в локонах.
Принц не удержался и воскликнул, целуя ее руку:
— Так вот она — царевна Селанира!
Елизавета смутилась. Императрица нахмурилась и только проговорила сквозь сжатые губы:
— Как, ты уже читал романы, маленький плут!
Александр странно улыбался.
X. Следствие императорской благосклонности
Когда принц с генералом своим сходил с лестницы дворца, то последний, задыхаясь от счастья, что величайшая опасность миновала благополучно, бросился принцу на шею, и при этом радостном движении с него слетел парик.
Принц поднял парик. Дибич поцеловал его руку.
В карете он предался еще более шумной радости, повторяя тысячу раз:
— Благодарение Богу, император к нам милостив! Многолетняя придворная опытность не могла бы произвести такого действия, какое произвела ваша детская простота и откровенность. Да! Да!., не злоупотребляйте сею простотой, мой дорогой принц!
Огромное скопление экипажей, запрудивших всю набережную Невы перед корпусом, поразило принца.
— Что это значит? Почему такой съезд? — удивился принц.
Но барон Дибич только улыбался и самодовольно потирал руки.
Надо было видеть комическое величие, с которым эта карикатура на человеческое существо вышла из кареты и вступила в вестибюль и на лестницу корпуса, запруженные лакеями с шубами их господ.
Приемные покои помещения, занятого принцем, оказались наполненными посетителями. Тут были чины двора, дипломатические чиновники, генералы, наконец, дамы разного возраста, но все разряженные, бросающие томные, загадочные взоры на юного принца…
Едва принц показался, ему навстречу поспешил камер-паж императора и поднес знак Мальтийского ордена.
Дибич украсил грудь Евгения сверкающим бриллиантами орденом и поздравил его.
— Но что должен я делать с этой толпой? — тихо спросил его принц.
Дибич, вздернув голову, похаживал вокруг принца и кидал пренебрежительные, незрящие взгляды на толпу посетителей.
— Ничего, ваше высочество, равно ничего! — сказал он в ответ на вопрос принца. — Вы можете осчастливить некоторых милостивыми вопросами. Но еще лучше будет, если вы сейчас же удалитесь во внутренние покои, а мне прикажете уведомить всех их, что чувствуете себя крайне утомленным и сегодня никого не можете принять.
— Очень рад. Сделайте так, — согласился принц и удалился.
Когда через четверть часа к нему вошел Дибич, принц спросил:
— Что, собственно, вся эта комедия значит?
— Благосклонность императора! — торжественно поднимая палец кверху, сказал маленький щелкун. — Благосклонность императора! Она сообщила вашему высочеству как бы некую магнетическую силу. И вот со всех мест пылинки устремляются прилепиться к вашему магниту. Но…. не доверяйте никому, ибо они все лукавы, как кошки.
— Это очень скучно. Что им от меня надо, не понимаю! И вовсе не желаю быть каким-то магнитом для чиновной и придворной пыли. Я приехал сюда учиться.
— Корпус ваш — дворец, принц.
— Я бы хотел быть простым кадетом.
— Во всяком случае прежде должно вашему высочеству после дороги отдохнуть. И я бы просил вам оказать мне высокую честь. Для отдохновения пожалуйте сегодня вечером ко мне. В комнатах моих, веселом кругу знакомых, обычно собирающихся в семействе моем, кроткие забавы вам понравятся. Будут очень хорошенькие девушки. Также будет начальник корпуса Клингер и секретарь его величества Август фон Коцебу.
— Охотно буду, — сказал принц, — но лишь в том случае, если у вас будут не начальник корпуса и секретарь его величества, а драматические авторы Коцебу и Клингер.
— О, принц! В кругу близких и своих Клингер совсем другой человек. В комнатах моих это тот Клингер, которым знает его отечество, Германия.
— Я буду. Но вот что! Непременно пригласите и ротмистра фон Требра. Он страстный поклонник новой немецкой драматургии и мне любопытно послушать его ученую беседу с Клингером и Коцебу.
Чрезвычайное неудовольствие изобразилось на физиономии Дибича.
— Если нам угодно, принц, — сказал он, — то я приглашу ротмистра.
В комнатах Дибича принц неожиданно нашел самое милое общество. Во-первых, в домашнем костюме и домашней обстановке принц совсем не узнал своего щелкуна. Исчезла карикатурная натянутость и важность. Это был милейший, смешной старикашка. А жена его оказалась прямо восхитительной старушкой. Комнаты Дибича помещались на антресолях и потому были малы, но уютны и наполнены самой смешной, старинной мебелью, множеством цветов, кустов, деревьев в фигурных больших горшках, убраны различными коврами, ковриками, подушками работы хозяйки, разными Механическими картинами, фигуры на которых двигались с помощью заведенных пружин и внутри играла музыка, букетами из самых неожиданных материалов — из хлеба, пробок, стружек и т. п. под стеклянными колпаками. Множество собачек, кошек, попугай, канарейки, ученая сорока, клест оглашали комнаты различными звуками. У Дибича были взрослые сыновья, явившиеся с женами и чадами, и дочери; кроме того, другие немцы и немки привели своих дочерей, и принц нашел действительно целый цветник хорошеньких девочек и девушек. Сейчас же затеялись разговоры, танцы, поднялся смех, играли aux petits jeux, и принцу не пришлось внимать беседе ротмистра фон Требра с Клингером и Коцебу о драматургии, тем более, что ротмистр явился распараженный, накрахмаленный и высоко недоброжелательный ко всему и ко всем в комнатах личного врага его и конкурента Дибича.