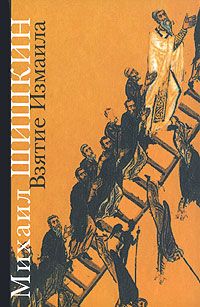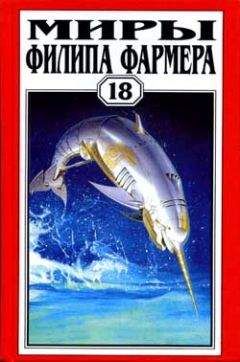Ознакомительная версия.
Какие-то младенцы оказывались уже замужем во Владивостоке.
А вот старуха в платке, утирая кончиками слезы, рассказывает мне, что у Сереги еще есть старший брат, но он сидит в тюрьме, потому что на своей свадьбе поссорился с отцом, подрался и прибил его молотком.
Потом оказывается, что этой женщине, сестре Серегиной матери, показавшейся мне старухой, нет и тридцати пяти.
Помню, пошли еще куда-то в гости, и еще. Везде меня хлопали по плечу, чокались. Везде тыкали в фотографии, везде кого-то рожали, женили, убивали.
Еще вспышка, последняя в тот день: мать Сереги сидит на полу у печки и ревет, размазывая по лицу слезы.
Я:
— Что с вами? Что случилось?
Она машет рукой:
— Да это я так, по пьяни!
Потом провал.
И пробуждение, от которого и сейчас, через столько лет, бросает в дрожь.
— На, сынок, выпей, — говорит мать Сереги, увидев, что я открыл глаза, и протягивая мне полный стакан водки.
Зажав пальцами нос, я выпил. Действительно, стало легче.
Снова вспышки.
Вот магазин. Серега покупает водку. На прилавках только водка и консервные банки с морской капустой.
Вот почему-то кладбище. Пьем на чьей-то могиле. Может, его отца? Церковь без головы. Серега рассказывает, что когда-то церковь хотели взорвать и разобрать на кирпичи — несколько раз подрывали, но у нее только купол провалился, а стенам хоть бы что. Так и стоит с тех пор.
Я хотел пойти посмотреть, что там внутри, но Серега махнул рукой:
— Туда не войдешь! Все засрали.
Я спросил:
— Так что там все же было, с девчонкой-то?
Наконец я услышал рассказ о совершенном Серегой подвиге.
Он стоял зимой в карауле, на задах военного городка. Под откосом внизу проходил канал. Вода замерзла, и по льду бегали ребятишки. Вдруг кто-то из них провалился в полынью. Визжит, барахтается, хватается за лед, а выбраться не может. Остальные испуганно замерли вокруг, потом побежали на берег, к домам.
— А я стою на посту, понимаешь? — рассказывал Серега. — А пост покинуть не могу по уставу, понимаешь? Ну, стою. А она там визжит. Я опять стою. Меня вот-вот сменить должны. Что, я все брошу, пост, автомат и в воду, что ли? Это ж трибунал. Прапор, сука, давно на меня зуб точит, а тут такой повод, пронимаешь? А мне до дембеля почти что ничего. Опять стою. А она опять визжит. Ну, думаю, хрен с ним, с дембелем! Не могу больше — бросил автомат, тулуп, сковырнул сапоги — и туда. Лед подо мной треснул, я по уши в воде. Но там неглубоко было. Вытащил ее, а от ближайших домов уже кто-то бежит — может, в окно увидели. Я отдал им девчонку — и обратно, на пост. А там уже разводящий из-за угла. Я весь мокрый, без сапог, автомат из сугроба торчит. Я ему про девчонку, а он даже слушать ничего не стал. Так, мокрого, и под арест.
Я спросил Серегу что-то очень глупое, типа:
— Как же ты не заболел-то?
Он засмеялся.
— Подумаешь! Пацаном-то сколько раз так вот провалишься — выльешь воду из валенка и дальше бежишь.
— Ну, а потом что было?
— Провел ночь под арестом. Сам знаешь, мало приятного. На следующий день приходят за мной, мол, давай, Мокрецов, наделал делов, теперь собирайся. Ну, думаю, песец, теперь дадут пивка попить, не расхлебаешься. А оказывается, вон как все вышло — ее отец к нашему начальству прибежал, стал меня требовать. Так вот я вдруг в героя и превратился. Даже в Берлин возили
— дали ихнюю медаль за спасение утопающих. Во как!
Я спрашиваю:
— А где медаль-то?
Хохочет:
— А хер ее знает. Я, понимаешь, когда обратно ехал, в жопу нажрался, так меня обчистили. Все скоммуниздили. И медаль тоже. Во как!
И снова захохотал. И я вместе с ним. Обнимаемся, пьем из холодных, с ошметками снега, стаканов, грызем моченые яблоки, что его мать нам дала, смотрим на сугробы, из-под которых торчат кресты и звезды, на церковь, которую не взорвешь и в которую не войдешь, — и хохочем.
Помню, я умылся снегом, и вдруг стало так легко, свободно.
Потом опять вспышки.
Меня где-то выворачивает, чуть ли не на том же кладбище.
Опять у кого-то в гостях. Снова хлебаем из одной кастрюли.
Снег по колено. Сзади слышу:
— Куда ты? Стой!
А мне только хочется уйти куда-нибудь от этих людей, закопаться поглубже в сугроб и спать.
Не знаю — день или ночь, Серега мне:
— Счастливый ты, Мишка, человек! Спецкор, журнал! А я — что? Мне все тут завидуют — в ГДР служил. Да там звезды точно так же в жопы заколачивают. После дембеля вернулся — и что? Вон, навоз на поля вывожу. Потом водку пьешь, да морду кому-нибудь бьешь. И что? Тошно, Мишка!
Я ему:
— Ни хрена ты, Серега, не понимаешь! Я болтаюсь в этой жизни, как кусок говна в проруби, и сам себя презираю, понимаешь? А я себя уважать хочу. Я уже решил — брошу все это к такой-то матери и пойду в школу, детишек буду учить. Понял?
Серега:
— Ты что, охренел, что ли? Да зачем тебе это надо?
Я:
— Ни хрена ты, Серега, не понял!
Он:
— Это ты, Мишка, ни хрена в этой жизни не понял!
Потом опять провал на провале.
Комната с графиками и плакатами. Я кричу в трубку, чтобы меня поскорее отсюда забрали. Кто-то отнимает у меня трубку и говорит, что нет связи.
Серегина мать чего-то от меня хочет, а я никак не пойму, что она бормочет. Потом дошло — у них нет больше денег на водку. Я сую ей четвертак. Она схватила мою руку и чмокает. Я вырываю руку — она целует меня в плечо и бежит куда-то.
Я хочу идти звонить, но меня не пускают — ночь, что ли?
Снова все темно.
Меня будят — я лягаюсь.
Снова будят — снова лягаюсь.
Наконец доходит, что за мной пришел УАЗ.
Проводы. Посошки. Объятия. Поцелуи. Слезы.
Кибитка.
Не успел заснуть — трясут за плечо:
— Приехали, слышь!
Таращу глаза — площадь перед обкомом.
И ничего не соображаю — кругом какие-то странные люди.
Их много. Они в шинелях. А на плечах головы медведей, лисиц, волков, еще каких-то зверей.
Сенат и стану воинского и гражданского, по неколикократном собрании, по здравому рассуждению и по христианской совести, не посягая и не похлебствуя и несмотря на лица, по предшествующим голосам, единогласно и без всякого прекословия, согласились и приговорили. Слушали: 44. Дело No12301. Томский Г.О. НКВД. Шпет Густав Густавович, 1879 г. рожд. Урож. г. Киева, потомственный дворянин, судим. Обвиняется в контрреволюционной кадетско-монархической повстанческой деятельности. Постановили: Шпет Густава Густавовича расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать. Постановление из акта No36. Постановление Тройки УНКВД НСО от 9 ноября 1937 г. о расстреле Шпет Густава Густавовича приведено в исполнение 16 ноября 1937 г. в «…» часов. Верно: подпись. Квитанция No3555. Принято согласно ордера Оперода ГУГБ НКВД No2490 от арестованного Шпет Густав Густавовича 1) денег: Руб. — коп. — 2) Вещи: Шпага без ножны.
В изоляторе хранится в делах Начальника изолятора. При освобождении арестованного дается ему на руки. Дежурный приема арестованных. Подпись. Земля эта на востоке простирается до Танаиса, составляющего границу Европы и Азии, и далее за Ра, величайшую из рек Азиатской Сарматии, вплоть до Гиперборейской Скифии. Страна богата серебром и отовсюду охраняется стражей, чтобы не только рабы или пленные, но и свободные туземцы или пришлые не могли без княжеской грамоты выйти оттуда. У них есть свой папа как глава церкви их толка; нашего же они не признают и считают, что мы вовсе погибшие люди. Никакой холод их не смущает, хотя им приходится проводить в поле по два месяца в такое время, когда стоят морозы и снега выпадает более чем на ярд. Простой солдат не имеет ни палатки, ни чего-либо иного, чтобы защитить свою голову. Если пойдет снег, то воин отгребает его, разводит огонь и ложится около него. Если истец не может доказать ничего, то ответчик целует крест в том, что он прав. Тогда спрашивают истца, не может ли он предоставить какие-либо иные доказательства. Если нет, то он может сказать: «Я могу доказать свою правоту телом и руками». Перед тем, как стать на поле, оба целуют крест, что они правы и что каждый заставит другого признать истину, прежде чем они уйдут с поля.
Русские законы о преступниках и ворах противоположны английским законам. Русские по природе очень склонны к обману; сдерживают их только сильные побои. Я слышал, как один русский говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на воле, если бы только не подвергаться сильным побоям; там они получают пищу и питье. По моему мнению, нет другого народа под солнцем, который вел бы такую суровую жизнь. Поэтому они считают себя святее нас. Что касается пьянства и разврата, то нет в мире подобного, да и по вымогательствам это самые отвратительные люди под солнцем. Чрезвычайных доходов герцог мог бы извлечь много, так как население очень покорно, но, насколько можно узнать, налоги у него не в обычае. Тогда же подоспели великий голод и чума.
Ознакомительная версия.