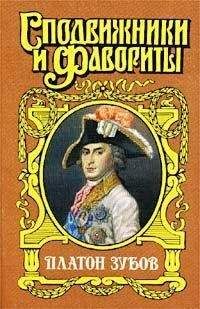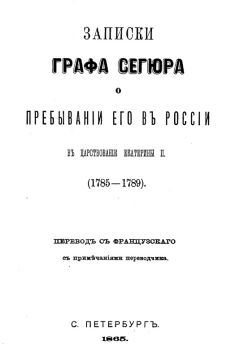— Чем это вам мешает? Константину Павловичу не приходится рассчитывать на престол даже в самом отдаленном будущем. Он должен чем-то и как-то убивать время.
— Все не так просто, мой друг. Подумай сам: распространение гатчинского духа означает усиление наследника, а этого допустить нельзя тем более, что Павел Петрович всего лишь номинальный наследник и передавать ему престол я меньше всего собираюсь.
— Мне кажется неуместным участвовать в подобных обсуждениях, ваше величество.
— Пожалуй, ты и прав, но мне больше решительно не с кем обсуждать все семейные осложнения. Ты же знаешь, Константин Павлович строптив, упрям, своеволен и с огромной охотой променял бы, по его собственному выражению, свое высокое происхождение на должность рядового полкового командира. И вообще он явно лучше чувствует себя в строю, чем перед строем, вот и суди такого великого князя.
— Я слышал, Константин Павлович нашел оригинальный способ будить свою молодую супругу.
— Но это вообще переходит все возможные и невозможные границы! Он посылает в ее спальню барабанщиков, и это к четырнадцатилетней принцессе. Я не удивлюсь, если в самом скором времени маленькая принцесса взбунтуется и сбежит от такого супруга.
— Ну, этого можно не бояться. Принцессам некуда бежать. Они приговорены к дворцам и, значит, будут терпеть.
— Да я вообще давно перестала понимать этого мальчишку. Вообрази, какой анекдот о нем распространился по всей Европе и, во всяком случае, в Париже. Наш агент уверял, что он содержался даже в письме французского уполномоченного в Петербурге некоего Жене тогдашнему министру Дюмурье. Ему сообщил о разговоре с великим князем французский художник, писавший тогда портрет Константина. Константин, видите ли, поинтересовался, не демократ ли портретист. Художник ответил достаточно уклончиво, в том смысле, что он любит родину и свободу. На что Константин Павлович ответил в ему одному свойственном резком тоне, что он не собирается упрекать живописца, что он сам тоже любит свободу и если бы был во Франции, то с увлечением взялся бы за оружие. Каково?
— Как давно это было, государыня?
— Константину Павловичу исполнилось тринадцать лет.
— И вы можете ставить в вину подобный несуразный ответ подростку?
— Члены царской фамилии, мой друг, не бывают ни детьми, ни тем более подростками. Они отвечают за себя с момента своего рождения. И это прежде всего отличает их от обыкновенных людей.
— Вы на редкость хорошо осведомлены о всех словах и поступках младшего великого князя.
— Что же тебя удивляет, мой друг? Его наставник по военным вопросам Ардальон Торсуков, бригадир, супруг племянницы Марьи Саввишны.
— Я не понимаю тебя и, наверное, никогда не пойму, Платон Александрович! Ты же совсем недавно издевался над госпожой Лебрен, старался вызвать мою досаду множеством заказчиков, толпившихся в ее мастерской. Я могу повторить все твои слова, сказанные в адрес заезжей знаменитости — они не были лестными для нее. И вдруг ты же начинаешь настаивать на том, чтобы я стала ей позировать. Откуда сии перемены? Что стоит за ними?
— О, вы даже в таких мелочах усматриваете возможность некоего обращенного против вас заговора, мадам! Это просто смешно.
— Не так уж и смешно. Я хочу знать истинную подоплеку твоих перемен. Тебе недостаточно, что они меня беспокоят и заставляют присматриваться ко всему твоему окружению.
— Если вы уж так настаиваете — извольте. Вас никогда не волновало искусство, мадам. Вы безразличны к музыке, но будем откровенны, не менее равнодушны и к живописи. Не случайно пополнение Эрмитажа поручаете каким-то случайным людям, даже просто банкирам. Они не могут, не способны отбирать шедевры, но вполне могут позаботиться о выгодных сделках. Покупать скопом всегда дешевле, не так ли?
— Платон, ты становишься нарочито несправедливым. У меня просто никогда не было времени заниматься пусть даже приятными для меня занятиями. Дела управления государственного всегда поглощали все мое время.
— У других монархов они нисколько не более легкие.
— Положим. Положим, хотя положение России заставляло думать о такой протяженности границ, что…
— Мадам, я не ваш исповедник, а вы становитесь слишком многословны. Чтобы не длить этот бессмысленный и скучный разговор, я скажу только, что к каждому художнику надо присмотреться. То, что не нравилось сначала, при более внимательном рассмотрении может захватить воображение.
— И все это глубокомыслие ради слащавых полотен Виже Лебрен?
— Слащавых? Я бы сказал — романтических. И потом вы говорили о политике, мадам… Так вот, обращение к Виже Лебрен сегодня входит как раз в политическую программу, об этом вы не подумали?
— Но ты становишься настоящим публичным защитником маленькой француженки.
— Художницы, мадам! Прежде всего художницы! Вспомните, как она приехала в Петербург. Без приглашения, без рекомендаций…
— Но успев предварительно позаботиться, чтобы ее квартира и мастерская выходили окнами на Зимний дворец.
— Это самое красивое место в столице — что удивительного?
— И каждодневная возможность показывать нам, какие вереницы экипажей толпятся у ее крыльца. Ты же сам говорил, что после приема у императрицы публика прямиком направлялась к француженке. Ее салон стал модным. Ее рассуждения о политике и искусстве стали повторять — при всей их наивности.
— Уж не завидуете ли вы этой малышке, мадам?
— Ты становишься совершенно несносным, Платон!
— Ах, я же еще виноват перед вами. Прекрасно!
— Я хочу тебе напомнить, что тогда я вопреки твоим колкостям и недовольству в первый же день приезда художницы в Петербург приняла ее. Она писала французскую аристократию и привезла с собой парадный портрет несчастной Марии Антуанетты.
— Вы сами признаетесь, что вашими действиями руководил расчет, а не отношение к живописи.
— А ты еще не привык, что монарх всю свою жизнь находится на сцене, перед глазами тысяч и тысяч далеко не благожелательных зрителей, что он должен — понимаешь ли, должен! — играть свою роль. Если ему это даже горько и противно.
— Я должен вам посочувствовать, мадам, в вашей горькой участи?
— Прекрати же, наконец! Да, я имела в виду, что Лебрен была любимой портретисткой казненной королевы. Да, я не могла пренебречь и тем, что среди ее наиболее верных поклонников находится брат Фридриха Великого принц Генрих. Одна связь со свергнутыми французскими монархами, один ореол политической эмиграции говорили сами за себя. Лебрен и поныне живет и процветает в лучах этой славы. Но кисть ее, слащавая и одинаковая во всем, что она делает, меня не устраивала и не устраивает. Ее мастерская — это салон ею же самой выдуманной моды, которой поспешили следовать наши щеголихи.
— И тем не менее Лебрен — член Болонской академии Клементины, член Пармской академии. Она имеет заказ на автопортрет из Уффици. Венский двор, берлинский и, наконец, Петербург. Она не начинала с Петербурга, она подарила его своим искусством и славой.
— Если бы речь не шла о непременном заказе моего портрета, я бы заподозрила вас в прямой влюбленности, Платон!
— Слава Богу, что вы сделали хоть такую оговорку, мадам. И вот что я вам скажу. Вы могли иметь претензии к Лампи.
— Он сделал меня злой. И — гораздо старше моих лет.
— Положим, вы преувеличили, мадам. Лампи написал хороший портрет, но я уверен: госпожа Лебрен добьется еще лучшего эффекта. Вам нужен новый портрет, ваше величество. Вы стали забывать об этом непременном атрибуте императорской власти. Портрет самый нарядный и представляющий вас в полном расцвете сил. Вы должны оставаться молодой и прекрасной, какова вы и есть на самом деле.
— Ты веришь в собственные слова, мой друг?
— Это не слова — это ощущение, ваше величество. И потом — это заткнуло бы рты обитателям Гатчины. Последнее время они стали слишком бесцеремонными.
— Ах, вот оно что.
— Более того. Я бы на вашем месте приказал повесить у них этот портрет.
— Над этим стоит подумать.
— Еще бы! Но только не думать вообще, а сейчас, немедленно назначить время первого сеанса. Слух об этом немедленно дойдет до мрачной гатчинской берлоги.
— Немедленно! Тебя, мой друг, действительно выкупали в кипятке. Надо же еще договориться с художницей.
— В этом не будет никаких затруднений. Виже Лебрен дожидается вашей аудиенции и вашего распоряжения с самого утра, я приказал ей быть под рукой, и она любезно согласилась.
— Но это же неудобно, Платон. Вели ее пригласить в мой кабинет. Я принуждена буду извиниться перед ней за подобную бестактность. Она же не русская художница. Скорее, Платон Александрович.
— Ваше императорское величество!