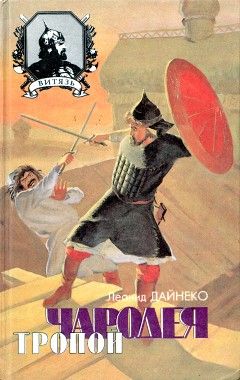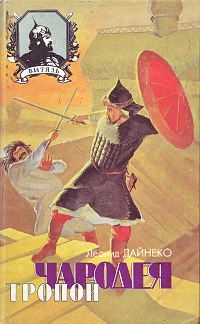Потом приказал своим спутникам:
— Привяжите его веревкой к сосне, а сами пойдем дальше.
Кусая от бессилья губы, Беловолод говорил будущим рахманам, которые старательно исполняли приказ Гневного:
— Не идите вы за этим зверем. Он высосет из вас все соки. Возвращайтесь домой.
— Из меня боярин Ансим уже все, что только можно, высосал, — ровным голосом проговорил один из тех, что обматывали Беловолода веревкой. — Ничего я, брате, уже не боюсь после боярской ласки. Каждый выбирает, что ему больше по губе.
Гневный стоял в нескольких шагах, усмехался. Беловолод хотел крикнуть, позвать на помощь кого-нибудь из поганцев. Вероятнее всего, прибежал бы сам Лют… Но посмотрел на обветренные бескровные лица тех, что пошли за Гневным, увидел их измученные глаза, почти лишенные света надежды, и опустил голову.
Наконец наступил долгожданный день, когда Перуна под выкрики поганцев вытащили на белый свет из тесной землянки, поставили на холме, у подножия которого шумела быстрая лесная речушка. В лесу, в затишках, еще лежали грязно-серые снега, пропитанные полой водой. Темные слоистые тучи комкал ветер. Водяная пыль сеялась с неба. И вдруг загремело вверху. Казалось, кто-то отвалил, сдвинул с места тяжелый камень. Желтый свет пробежал по тучам. Поганцы попадали на колени. Только Беловолод остался стоять. Он стоял с непокрытой головой, и пряди русых волос падали ему на глаза, мешали видеть. Этот ранний гром, гром на голый лес, обещал пустые сусеки и голодные животы, но был вместе с тем и добрым знаком того, что небо заметило нового идола и он понравился небу.
— Так это же наш Лют, — вдруг в звонкой после грома тишине прошептал бледнолобый язычник. Все вздрогнули. И все посмотрели на Люта, потом на Перуна.
II
Ломался на реках лед. Гремело на Днепре у Киева. Гремело на Припяти и на Десне. Черные тучи, сея мокрый снег и дождь, пролетали над прудами и лугами, над городами и весями. Иногда ветер задирал край огромной тучи, и взгляду открывалось такой неожиданной, такой манящей голубизны небо, что страшно становилось.
Уже не первую ночь не спалось Всеславу в великокняжеском дворце. Со свечкой в руках медленно ходил он из светлицы в светлицу, из покоя в покой и думал, думал… Он понимал, что в Киеве ему не удержаться. Все были против него: Изяслав и ляхи, бояре и священники, половцы и христиане, смерды и поганцы. Его даже удивляло, что врагов у него завелось, как блох у бездомной собаки. Кажется же, все делал, чтобы только залечить болячки стольного Киева и киян: жито раздавал из великокняжеских житниц, прогнал тиунов-лихоимцев и установил княжеский суд, выкупил в Корсуни у ромеев семь тысяч пленных русичей, старался примирить поганцев-перунников с христианами. Старательно склеивал, собирал по кусочку стеклянный сосуд, однако стоило только на миг отнять от сосуда руку, и он снопа рассыпался на осколки.
Скверные вести привозили утомленные долгой дорогой гонцы из Новгорода и Переяслава. Борисов Новгороде так и не смог поладить с вечем, с боярами. Выгнали его из детинца, он сел в Городище на Волхове и каждый день кончал тем, что пьяным оком смотрел на пустое дно очередной амфоры с ромейским вином. Посадник Роман в Переяславе держал город в железной руке. Но — доносят Всеславу — теснят из степи половцы, не давая ни дня передышки. Половецкая стрела однажды уже впивалась в выю отважного посадника.
Когда еще лежал в степи глубокий плотный снег, Всеслав поставил половину своей дружины и варягов Торда на лыжи, сам спешился, тоже стал на лыжи и этой силой неожиданно ударил по шатрам Шарукана. Невиданный переполох подняли, много захватили дорогих попон, жемчуга и серебра, большой полон пригнали в Киев. Но хребет хану так и не сломали.
Тайно от всех приходил ночью в великокняжеский дворец ромей Тарханиот. Снова звал русичей на войну с сельджуками, обещая золотые горы, но Всеслав отказался, твердо сказал, что свой меч и свое копье за край земли Киевской не понесет. Проглотил льстивый ромей обиду, преподнес великому князю серебряную чашу с милиарисиями, а назавтра прислал к великокняжескому столу заморских сладких плодов, в которых каждое зернышко виднелось в середине, точно были эти плоды стеклянными. Не удержался поваренок-малолеток, откусил кусочек и со страшным хрипением свалился на пол, лицо сразу почернело, как сажа. Всеслав приказал отыскать кровавого татя и, содрав с него кожу, бросить в кадку с рассолом. Но Тарханиот как сквозь землю провалился. Вместо него приволокли гридни толстого безволосого и безголосого человечка из тех, что за поприще обходят женщин. Человечек назвался Арсением, он упал на колени перед Всеславом, и мокрые толстые губы заползали по княжеской руке. Всеслав с отвращением вырвал из его рук свою руку, приказал гридням бить ромея палками, а потом отпустить — пусть идет куда хочет.
И еще один неожиданный гость объявился в Киеве. Нунций [70] папы римского Григория. Был он красив, высок, держал в смуглых руках четки, бусинки для которых были выточены из маслиновых косточек, а привезли те маслины паломники из святой Палестины. Ехал нунций в Киев через ляшскую землю, видел в Кракове решительного Изяслава. У бывшего великого князя, видно по всему, кончилась, прошла зимняя спячка, и он собирал полки, сзывал наемников, чтобы кинуть их на Русь, как только подсохнут дороги. «Вода закипит в колодцах, когда я приду», — грозился, по словам нунция, Изяслав.
— Я не пугливый, — сказал, угощая гостя, Всеслав. — Поле и меч решат, кто из нас великий князь. А за кого вы, фрязи [71]?
От ответа на такой вопрос красивый нунций увильнул, проговорив, скромно подняв очи горе:
— Самые спелые яблоки остаются птицам. Они их расклевывают, и сладкий сок течет на землю.
Он ярко-влажными черными глазами посмотрел на Всеслава.
— Я — кислое яблоко, — улыбнувшись, сказал Всеслав. — Даже горькое. И знаешь, святой отец, почему? Земля, которая меня родила, дала мне такой вкус.
— Суровая земля, — нахмурился нунций.
— Суровая, — согласился Всеслав. — Но добрая. Добрая, как мать, что когда-то пела колыбельную. Так за кого же вы, фрязи?
— Я не буду обманывать, великий князь, — вспыхнул нунций. — Мы станем за короля ляхов Болеслава и за его союзника Изяслава. Почему? Потому что ляхи — верные дети римской апостольской церкви, а Киев, как и твой Полоцк, великий князь, поверил учению византийских лжепастырей. Жалко, что папа Лев Девятый оказался плохим рулевым, позволил разломиться на две части христианскому кораблю.
Он помолчал немного, внимательно посмотрел в глаза Всеславу.
— Но мы в Риме слышали, что ты, великий князь, ищешь свою веру. Не византийскую, не римскую, а свою. Это правда?
— Длинные же уши у Рима, — сухо усмехнулся Всеслав. — Даже до Киева дотянулись.
— Если это так, — тянул свое нунций, — покайся в смертных грехах, денно и нощно моли Христа, чтобы простил тебя. Все в этой и небесной жизни предопределено раз и навсегда.
— Но пришел Магомет и не перед Христом пал на колени, а нашел в аравийских песках своего аллаха, — заметил Всеслав.
— Лжеучение, — широко перекрестился нунций. — Лжеучение. Но не будем об этом. Святые римские кардиналы, а я их верный слуга, приказали сказать тебе, что со своей высоты они видят не только Болеслава Ляшского, но и Всеслава Киевского и Полоцкого. Привяжи Киев к римской колеснице и из рук самого папы, наместника бога на земле, получишь королевскую корону.
Нунций встал из-за стола. Встал и великий князь.
— Что же передать святому престолу? — то бледнея, то краснея, сказал нунций.
— Киев не конь — его не привяжешь, — улыбнулся Всеслав.
Глаза у нунция сузились.
— Memento mori, князь. Помни о смерти.
— Memento vivere. Помни, что живешь, — тихо, однако твердо проговорил Всеслав.
Нунций сразу же выехал из Киева. Он снова был красив, улыбка не сходила с его лица. На прощание Всеслав подарил ему три воза воска. На светло-желтых камнях было написано: «Се товар божий».
Весть о том, что поганцы во главе с Лютым покинули обжитые места и ушли на реку Припять, сначала обескуражила, а потом разгневала Всеслава. Предательство, низкую измену учуял в этом великий князь. Разве не помогал он им? Разве не давал покой и землю, чтоб хлеб сеяли, детей рожали? Опять же — от боярского гнева защитил, можно сказать, со смертного креста, снял. Но плюнули на все, убежали в диколесье, подальше от Киева. Там, известное дело, — каждый кустик ночевать пустит. А как же быть с землей дедовской и прадедовской, с Русью? Кто хранить, кто защищать ее будет? «Земле кланяйся ниже, будешь к хлебу ближе». Ведь именно от Люта, от молодого поганского воеводы, впервые услыхал эти слова Всеслав. И вот, бросив сохи и серпы, забились в лесные дебри.
Почернев от гнева, сидел великий князь в тиунской, там, где застала его весть о бегстве Люта. Швырнул на стол шапку, мял рукой мокрую от дождя бороду. Когда ж снова потянулся за шапкой, выскочила из-под нес крохотная козявочка (ее глазом заметишь). Со скоростью необыкновенной бросилась эта никчемная сороконожка спасаться, прятаться, искать убежище на златотканой скатерти, которой был застлан стол. Отвращение, омерзение и дрожь пальцев были у великого князя. Он ударил козявку шапкой, смахнул ее на пол, с ожесточением начал топтать, будто был это какой-нибудь ужасный аспид, враг рода человеческого. Вспомнилось, как однажды еще в отрочестве заночевал на сеновале у смердов, спал на какой-то дерюге и вот такая же ничтожная тварь заползла в ухо, целое утро там копошилась. Чуть умом не тронулся, пока догадались горячего воску и меду плеснуть в ухо.