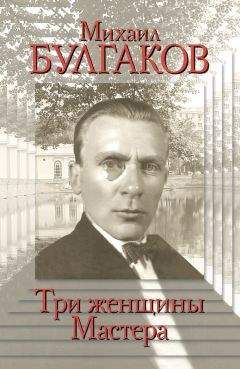Со времен первой, прусской, осады газовые фонари на улицах Парижа не горели, и сейчас спасительная тьма укрывала беглецов. Но догоравшая на холме ветряная мельница нет-нет, вспышками, да освещала улицы, разгромленные баррикады, распластанные на них тела, разбитые снарядами дома.
— В тени держитесь, Эжен, в тени! — вполголоса командовал Делакур. — И сильнее опирайтесь на палку, черт побери, и горбитесь побольше, будто вы — старец восьмидесяти лет! Вот так, вот так!.. Только самообладание и хитрость могут спасти нам жизнь. Лишь бы не напороться на жандармский или красноштанный патруль!.. Однако погодите-ка, постойте минутку, миленький мой! Что завалялось у вас в карманах штанов, старина Эжен? Любая мелочь может оказаться уликой!
Они остановились на углу улицы Розье, и Эжен ощупал карманы брюк.
— Вот кошелек, там ключи от мастерской и деньги. А это, должно быть, пропуск на Вандомскую площадь в день свержения наполеоновской колонны. И еще какой-то пропуск, кажется зеленый, да? Я плохо вижу. Значит, это для членов Коммуны: право прохода в любое время суток при запрете уличного движения.
— Ничего себе! Да как вы до сих пор живы, Эжен?! Давайте сюда! — Делакур выхватил из рук Варлена пропуска, изорвал в клочки и швырнул в сторону. — А записная книжка? А мандат члена Коммуны? А карточка Интернационала? Где?
И, словно очнувшись, Варлен рванулся было назад, но Делакур цепко ухватил его за рукав.
— Стойте вы, сумасшедший! Куда? Документы остались там… в кармане мундира.
И вы намерены вернуться? Воистину сумасшедший! Они же в вашем кармане равносильны смертному приговору! Забудьте о них, дружище! Будущая, грядущая Коммуна выдаст нам новые мандаты и пропуска… А часы? Те, именные, которые мы поднесли вам за первую победную забастовку? Они где? На их крышке Бурдой выгравировал ваше имя!
Варлен с усилием выпрямился, нащупал в кармане часы — они были на месте, при нем. Он так берег эту не слишком-то дорогую серебряную луковичку, память о первой победе. Наедине любил иногда перечитать: «Варлену — в знак признательности от рабочих-переплетчиков. Сентябрь 1864 г.».
И сейчас в ответ Делакуру буркнул глухо и твердо:
— Нет, Альфонс! Этого я никогда не выкину!
И что-то и голосе товарища тронуло Делакура до глубины души, он молча и с силой обнял Варлена за плечи.
— Ну, ладно! Только отдайте пока мне. Я верну их нам позже.
Они медленно брели, иногда спираясь друг на друга, оба почти без сил. Натыкались в темноте на трупы. Отдыхали, прислонившись к стенам домов и заборам.
Из окон попадавшихся на пути лавок и магазинов с уцелевшими витринами, со свеженапечатанных портретов на них грозно пялились глаза Галифе и Сиссе. Заняв квартал, «красные штаны» немедленно повсюду расклеивали изображения генералов, словно ставили печати победы. Правда, узнать знаменитых полководцев можно было только там, куда падал дрожащий свет догоравшего на холме ветряка.
Кое-где над улицей покачивались свешенные с балконов или прибитые над воротами трехцветные флаги. Даже здесь, в пролетарском Монмартре, оказывается, притаясь, кто-то ждал и жаждал поражения Коммуны. Хотя что ж удивительного: лавочников и буржуа, считавших себя обиженными Коммуной, везде немало. Свернув за угол, беглецы увидели невдалеке освещенные окна кафе. Оттуда доносились громкие голоса, лихая солдатская песня:
Гей, бретонские ребята, приналягте на вино!
Убивать — работа наша,
Кто нам платит — все равно!
Варлен когда-то слышал эту песню, ее сочинил для бретонских мобилей, наемных убийц Империи, какой-то парижский забулдыга-поэт, изредка печатавший свои вирши в дешевых бульварных газетках.
— Стой! — скомандовал Делакур. — Шмыгнем-ка в переулочек, Эжен, нам встреча с пьяными вояками совершенно ни к чему! Тут рядом в заборе проломана великолепная дыра. В нee, пожалуй, пролезет даже банкир Рулан с его знаменитым пузом!.. — Он присмотрелся к видневшимся неподалеку теням. — Гляньте-ка, старина, возле кабачка «У старых друзей», похоже, маячат синие мундиры и жандармские треуголки? Ну, конечно, они! Тоже не дураки выпить на дармовщинку! Идемте, Эжен, иначе влипнем, попадем как кролики в кошачье рагу! Только блюстителей порядка нам и не хватает!.. Сюда, сюда!
…Через полчаса беглецы сидели в убогой мансарде Делакура. К счастью, никто не видел, как они нырнули под арку ворот и пробрались к входу. Во дворе — густая темь, жалюзи на всех окнах опущены, только в двух или трех местах сквозь их щелки мерцал слабый свет. И в небе над глубоким колодцем двора изредка покачивались сполохи зарев.
Опасный путь, крутая лестница на четвертый этаж привели Варлена в себя, согнали сонную одурь. В крохотной передней он пробормотал:
— Спасибо, друг!
Но тот обиделся, заворчал сердито:
— Постыдитесь, Эжен! Неужели вы так худо думали о старине Делакуре?! Бросить товарища в беде, на съедение версальским скотам? Это надо же! Эй, Большая Мари, встречай гостей! Проходите, Эжен, садитесь на почетное место, в это великолепное кресло!
Варлену пришлось сделать всего два шага, чтобы добраться до креслица с продавленным соломенным сиденьем. Он сел, снял шляпу, откинул душивший его шарф. Что ж, знакомое жилище не слишком-то преуспевающего переплетчика, он бывал в десятках таких. Самодельный станок для домашней работы у одного из окон, пустые банки из-под клея, мотки шпагата, обрезки коленкора и кожи…
Вот так же выглядела и его мансарда на улице Фонтэн-о-Руа, когда он, около семнадцати лет назад, изгнанный из мастерской дядюшки Дюрю, впервые обзавелся собственным жильем… Как давно, сколько веков минуло с тех пор?!
— Ну вот, дружище Эжен, мы и дома! — словно откуда-то издалека донесся до него голос Делакура. — Большая Мари! Да что ты уставилась на меня, словно на привидение? Неужели не понимаешь, что нас после трудов праведных полагается хоть чем-нибудь накормить? И даже, может, выпросить у консьержки, мадам Клюжи, бутылочку дешевого вина! Она же промышляет перепродажей. Да очнись ты, Мари!
Вглядевшись в едва разреженный пламенем свечи полумрак, Варлен разглядел худое и измученное, еще недавно очень привлекательное знакомое лицо. Нет, если бы встретил на улице, он не узнал бы Мари, так исхудала и постарела. А когда-то такая была красоточка, сколько поклонников увивалось возле!.. Последние два года Мари работала поварихой в организованных Варленом кооперативных столовых, где рабочий, член «Мармит», мог за несколько сантимов пообедать…
Мари стояла у синей вылинявшей занавески, прикрывавшей вход в соседнюю каморку, бессильно опустив руки, и действительно смотрела на мужа и Варлена словно на привидения, явившиеся с того света. Из-за ее спины с обеих сторон высовывались и тут же скрывались две худенькие, испуганные мордашки… Ага, дочки Делакура! Ты, Эжен, изредка видел их, а у старшей даже был крестным отцом.
Мари пришла в себя, бросилась к мужу, усевшемуся напротив Варлена, и, упав на колени, обнимала его. Плечи судорожно дергались, и с трудом можно было разобрать, что она лепечет сквозь слезы.
— Альфонс! Альфонс! Дорогой мой! Ты живой?! Мадам Клюжи видела, как тебя расстреливали на обрыве, как ты упал вниз! Я пыталась побежать туда, но девочки уцепились, не могла оторвать. А брать туда… О, Альфонс! Неужели вернулся? — Она подняла от колен мужа блестевшее слезами лицо и оглянулась на занавеску. — Маленькая Мари, Анни! Смотрите, наш папа вернулся!
Но Делакур требовательно положил на плечо жены жилистую руку.
— Не шуми, Большая Мари! Значит, старая ведьма Клюжи все видела?
— Да, да! И даже, мне показалось, радовалась твоей гибели. Ты ведь, Альфонс, часто был груб с ней. Ну, разве нет?
— А тебе хотелось бы, чтоб я пресмыкался перед сплетницей и бывшей шлюхой? Не дождется, Большая Мари, не на того напала!.. Значит, говоришь, видела? Ну и хорошо, Мари! Пусть я останусь для нее расстрелянным коммунаром. Не говори ни ей, никому другому, что вернулся, вылез из могилы. Поняла? Пусть я, Альфонс Делакур, останусь для всех мертвым!
Мари снизу вверх смотрела в лицо мужа с суеверным страхом.
— Но, Альфонс, ты же…
— Молчи! — перебил Делакур. — Если стерва Клюжи узнает, что я остался жив и был здесь, обязательно донесет! Ведь за донос на нашего брата неплохо платят! И уж тогда меня наверняка убьют. Уразумела?
Мари ответила вздрагивающими губами:
— Да, Альфонс, да! Все поняла!
— Значит, ясно: никто обо мне и Эжене не должен услышать от тебя ни одного слова. Договорились? И синичкам строго-настрого накажи, — он кивнул на шевелящуюся занавеску, — пусть помалкивают во дворе. А теперь согрей нам кусок собачатины или конины, что там осталось. И достань бутылку вина, — мне и Эжену к утру необходимо подкрепить гаснущие силы! О, нас добить не очень-то легко!