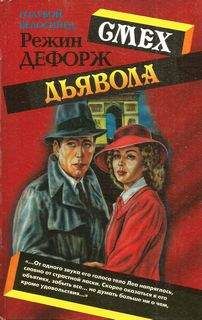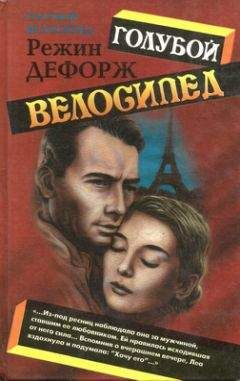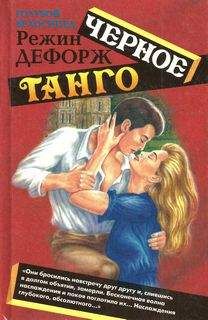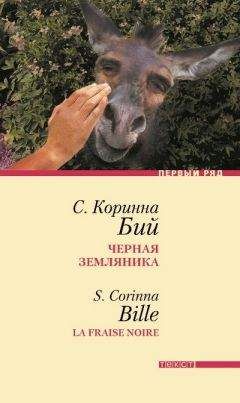Радость преобразила лицо Камиллы. «Как она красива!» — подумала Леа. В порыве нежности она обняла ее. Каким далеким казалось время, когда она ненавидела жену того, кого считала любимым и кому отдалась однажды ночью в тулузском подвале. Без задней мысли она разделяла теперь радость той, которая стала ее подругой.
— Спасибо, месье, за такую добрую весть.
— Думаю, могу сообщить, что скоро вы услышите и другие. Но пока вам надо уйти отсюда. Я вас переправил бы в Супрос, но, кажется, там установили надзор люди Гран-Клемана, который меня разыскивает.
— А не вернуться ли нам в Монтийяк, если нас не ищут?
— Об этом мы ничего не знаем. Не следует так рисковать.
— Через несколько дней можно будет переселиться в голубятню. Ее не обнаружат в лесу. Это не очень комфортабельно, но…
— Жизнь дороже комфорта, — возразил Аристид. — Соберите одежду и продукты на несколько дней. Мы сейчас же отправимся. Есть у вас простыни?
— Есть. Я возьму чистую для мальчика.
— Как вы поступите с Матиасом? — спросила Леа у английского агента.
— Если бы это зависело от меня, я отправил бы его в деревянный ящик, — проворчал Леон.
— Нельзя так покончить с ним. Надо его допросить. Я никому не доверяю, но мне думается, что он не виновен в этих арестах.
— Однако он работает на них.
— Не он один, увы! Пока нет доказательств против него, его нельзя убивать.
— Мы готовы, месье, — сказала Камилла, держа в руке небольшую дорожную сумку.
Полковник Клод Боннье, региональный военный делегат, известный под кличкой Гипотенуза, был послан во Францию Центральным бюро разведки и действия (ЦБРД) в ноябре 1943 года с заданием реорганизовать Сопротивление в Аквитании после измены Гран-Клемана.
Он был арестован гестапо в Бордо на улице Галар в феврале 1944 года около своего радиопередатчика, когда собирался отправить послание в Лондон (арестованный по доносу радист в свою очередь донес на Гипотенузу, который попал в ловушку, поставленную лейтенантом Кунешем).
Привезенный в Буск, на улицу Медок, он примерно восемнадцать часов подвергался допросу самого Дозе. Он упорно отказывался признать, что прислан из Лондона, что его имя Клод Боннье, или Борден, и что он дал приказ казнить полковника Камплана,[2] заподозренного в измене.
В конце концов разгневанный Дозе приказал отвести его в камеру. Допрос возобновился после обеда. Потом его бросили в камеру, не снимая наручников. Поздно ночью за Дозе пришли в офицерскую столовую: в камере Гипотенузы происходило что-то странное. Когда немец явился в подвал дома № 197 по Медокской дороге, служивший тюрьмой, Боннье лежал на полу, сотрясаемый конвульсиями, с пеной на губах. Он стонал. Главный надзиратель, склонившийся над телом несчастного, выпрямился:
— Он отравился цианистым калием.
— Вижу, болван. Вы его не обыскали?
— Обыскали, разумеется. Он, наверное, спрятал капсулу в складке одежды.
— Как он сделал это со скованными руками?
— Он, должно быть, вытащил капсулу зубами, но она выскользнула, он ползал и лизал жидкость, поэтому он и не умер сразу.
— Быстро позовите врача!
— Есть, лейтенант.
В соседних камерах заключенные тщетно затыкали уши, чтобы не слышать криков и стонов. Испытывали ли они угрызения совести от страданий того, кого они выдали, эти двадцатилетние арестанты, обработанные Дозе? Нет, вероятно. Им казалось справедливым, что тот, кто казнил их шефа, полковника Камплана, поплатится своей жизнью.
Клод Боннье умер на рассвете, не сказав ни слова.
Измученный Фридрих-Вильгельм Дозе пробормотал: «Эти люди из Лондона — необыкновенные».
Парадоксально, но эта ужасная смерть, которая должна была бы парализовать волю людей, напротив, придала им сил, удесятерив энергию подпольщиков.
Мясник тоже был человек необыкновенный. Его участие в рядах Сопротивления объяснялось глубоким убеждением, что немцам нечего делать во Франции и что такие люди, как он, должны предпринять все, чтобы изгнать их, если не хотят однажды краснеть перед своими детьми. Сын верденского солдата, умершего от ран, он сделал своим кредо любимую фразу отца. Каждый раз во время прогулок по холмам, главенствующим над местностью, старый воин останавливался, чтобы полюбоваться окружающим, и торжественно произносил: «Франция стоит того, чтобы за нее умереть!»
У Альбера не было капсулы с цианистым калием, и Дозе не участвовал в его обработке. Ее производили палачи Пуансо. Они изощренно пытали его при помощи… ножей для разделки мяса.
Он даже пробовал шутить:
— Это Господь наказывает меня за то, что я убил столько животных.
Палачи осыпали его ударами, засовывали, смеясь, дольки чеснока в раны, приговаривая: «Настоящая пасхальная баранина!»
Они сыпали соль и перец на обнаженные грудные мускулы, перевязывали его, «как окорок». Когда они достаточно потрудились над «этим мясом», ставшим неподвижным, из которого они не смогли извлечь ни слова, они скатили тело по лестнице в подвал и заперли в камере, где, умер Боннье. Альбер пришел в себя и услышал, как его мучители говорили с издевкой:
— Если он не заговорит завтра, мы разрежем перед ним на кусочки его жену.
«Я заговорю», — просто подумал он.
Во время бесконечной ночи каждое движение причиняло ему такую боль, что он не мог удержаться от криков. Долгие часы он грыз веревку, которая сдавливала ему одно плечо. Несмотря на ледяной холод камеры, он весь вспотел; незадолго до зари ему удалось перегрызть веревку. Но такие усилия истощили его изуродованную плоть, и он потерял сознание… Когда Альбер очнулся, начинался день. Он попытался освободиться от веревок, впившихся в его раны и задубевших от крови. Эти новые страдания в какой-то момент исчерпали его энергию, и он заплакал, как не плакал со времени смерти своего отца, когда ему было девять лет. То были громкие и нелепые рыдания, сотрясавшие тело сильного человека. Альбер рухнул на грязный пол. Он достиг предела отчаяния… Если бы палачи явились в этот момент допрашивать его, он, вероятно, заговорил бы. Слезы перемешались с пылью на его щеке, образовав комочки грязи. Его пальцы мяли эту грязь. «Земля…»
Из нее он извлек силу и ярость, чтобы окончательно сорвать свои путы. Немного света просачивалось через плохо закрытую отдушину. У отверстия висело большое кольцо, до которого Альбер достал, протянув руку. Труба канализации тянулась вдоль стены. Он поднялся на нее и привязал конец веревки к кольцу. На другом сделал скользящий узел и накинул веревку на шею. Потом соскользнул вниз… Его ноги забились… Мощный инстинкт жизни заставил его попробовать вновь подняться на трубу. Тонкая веревка впилась в шею, медленно перерезая гортань. Альбер умирал долго.
В соседней камере два борца из Вольных стрелков в Сен-Фуа-Лагранд пели хриплыми голосами, становившимися все громче:
Если погибнешь, друг,
Выйдет другой в круг
Света вместо тебя.
Завтра черную кровь
Солнце высушит вновь
На пути.
Свистни, товарищ мой,
Свобода порой ночной
Слушает. Ты свисти.[3]
Жена и товарищи Альбера узнали о его страшной смерти лишь после освобождения Бордо.
«Дорогая Леа,
не знаю, как обстоят дела в Монтийяке, но здесь, в Париже, все сошли с ума. Все живут в ожидании высадки, и никогда люди не ненавидели так англо-американцев и их проклятые налеты. Особенно ужасной была бомбежка в ночь с 20-го на 21-е апреля. Я была у друзей, которые живут на верхнем этаже дома на площади у Пантеона. Больше часа мы смотрели на спектакль, распивая шампанское и виски. Это лучше, чем фейерверк 14 июля. В Сакре-Кёр не уцелело ни одного стекла. Убито более шестисот человек. Тетушки из-за этого уехали. Мне это тоже трудно переносить, но я стараюсь не думать об этом, иначе я поступлю подобно им — проведу свои дни за молитвой в подвале, в метро или в зале кинотеатра, которые остаются открытыми до шести часов утра, чтобы служить убежищем. Тревоги бывают почти каждую ночь и даже днем. Это не жизнь.
Что касается питания, то я выкручиваюсь. В Монтийяке, вероятно, с этим лучше. С приятелями говорим только о докторе Петио и преступлениях на улице Лёсюер. У меня от этого кошмары. У тети Лизы тоже, она вырезает из газет все, что касается этого ужасного дела. Кажется, англичане сбросили в Шаренте ящики с пирожками, начиненными взрывчаткой. Ты не слышала об этом? Хотя думают, что это антианглийская пропаганда, некоторые поговаривают, что англичане вполне способны на это. Париж удостоился посещения моего бывшего кумира. Маршал собственной персоной появился для приветствия на площади Ратуши. Тетушка Альбертина и я выбились из сил, чтобы помешать Лизе отправиться туда.