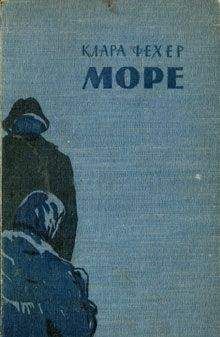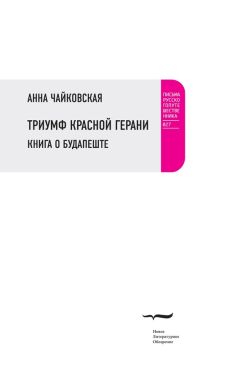У второго окна за светлым, в модном стиле письменным столом сидел Дердь Татар. На его столе никогда ничего не лежало, кроме серой папки с надписью крупными печатными буквами: «Начальник отдела материального снабжения, референт по вопросам государственной мобилизации, начальник ПВО Дердь Татар».
В каких-нибудь полутора метрах от начальников скромно стояли сдвинутые столы молодых чиновников. За расшатанным столом, покрытым зеленым сукном, восседал молодой практикант Эмиль Паланкаи. Паланкаи не обращал внимания на свое рабочее место, равно как и на всю контору. Почетная обязанность вносить в особую книгу входящие и исходящие счета совсем не вдохновляла его.
Являясь утром в контору, Паланкаи сразу же садился за стол, доставал учебник японского языка и с усердием погружался в учебу. Он твердо верил, что в скором времени будет установлена венгерско-японская граница и тогда он будет по меньшей мере послан в Токио, если не станет министром иностранных дел. Паланкаи носил форму, причем придуманную им самим особую форму командира бойскаутов, из черного сукна, с многочисленными золотыми кисточками, звездами и нашивками, а на петлице — символом победы «V». Дополняли этот наряд сапоги и шапка «Турул». Как-то раз он явился в контору с нарукавной повязкой ннлашистов[6], но по обоюдному требованию Карлсдорфера и Ремера вынужден был спрятать ее в карман. Он затягивал поясной ремень до такой степени, что, казалось, вот-вот тонкая талия сломается и верхняя часть туловища отделится от нижней. Худое лицо этого тщедушного юноши было усыпано множеством прыщей, над которыми возвышался большой горбатый нос. Раньше у него был прямой, красивый римский нос, но как-то раз во время лыжной прогулки в Семмеринге он налетел на дерево, сломал себе левую ногу и разбил нос. Эта трагедия — что касается, конечно, носа — потрясла его до глубины души. Он любой ценой хотел доказать, что за его не совсем арийской внешностью скрывается пламенное сердце расиста. Начиная с пятого класса гимназии Паланкаи работал над грандиозной монографией под названием «Венгры — самая благородная раса». Этим трудом он собирался доказать, что господствующая прослойка англичан, французов, голландцев и всех других культурных наций произошла от венгров. В английском языке он уже нашел доказательства этому. Английское слово «элевен»[7] которое, правда, вырождающиеся альбионцы произносят как «илевн», несомненно, венгерского происхождения. Этимология проста. Примерно тысячу лет назад, во время великого переселения народов, сто венгерских всадников отправились в путь с намерением завоевать Англию. После тяжелых и героических сражений из ста человек одиннадцать попали на английскую землю живыми. Они положили начало английским королевским фамилиям, поэтому память о них хранится в слове «элевен», и поэтому на языке англичан это слово означает «одиннадцать»… Или кто стал бы оспаривать, что члены династии Тюдоров, то есть Тюдоры, по всей вероятности, находятся в родстве с венгерскими «тудорами»?[8] Во французском и голландском языках он пока еще не выискал доказательств своей теории, но ведь сейчас, в тысяча девятьсот сорок четвертом году, Паланкаи всего лишь девятнадцать лет! У него еще хватит времени продолжать свои изыскания, пока он станет дедушкой!
Кроме главного своего труда, Паланкаи работал и над более коротким научным исследованием, для которого пока придумал только название и план. «Евреи — кровопийцы чистокровных арийских народов». В пункте первом его плана значится: «Можно ли считать еврея человеком?»
Но однажды судьба зло посмеялась над ним. В одно прекраснее весеннее утро, когда он, спрятав в книге исходящих счетов свои научные заметки, как раз трудился над упомянутой выше «философской темой», на его письменном столе зазвонил внутренний телефон. Его превосходительство Карлсдорфер вызывал Эмиля к себе. Поскольку Карлсдорфер имел обыкновение приглашать к себе чиновников только в редчайших случаях, то уже сам по себе этот факт был из ряда вон выходящим. Паланкаи неохотно повиновался, отложив на более поздний срок разгадку важнейшего биологического вопроса.
— Прошу вас, дорогой господин Паланкаи, — обратился к нему Карлсдорфер, — будьте так добры, сходите в городскую управу и передайте, пожалуйста, это письмо господину бунчужному витязю Чаба Хайтаи.
Паланкаи поморщился, он ведь не чиновник на побегушках, а начальник бойскаутов и студент университета. Но весеннее солнце так ярко светило, что куда приятнее было прогуляться по проспекту Андраши, чем сидеть здесь, в этой замызганной конторе, поэтому он без возражений взял письмо Карлсдорфера и ушел.
Через полчаса он вернулся, и с позором. Бунчужный витязь Чаба Хайтаи страшно разгневался оттого, что Паланкаи не назвал его почтеннейшим господином. Он выхватил из рук начальника бойскаутов письмо, а его самого выгнал вон. Карлсдорферу позвонил по телефону и попросил, чтобы в другой раз не присылали писем с такими носатыми, невоспитанными еврейскими щенками. Кровно обиженный Паланкаи уселся за свой письменный стол и ответил на первый вопрос своего произведения: «Нет, евреи ни в коем случае не могут считаться людьми». И тогда же дал клятву подвергнуть свой нос — совсем как у Сирано де Бержерака — операции.
Письменный стол Паланкаи был ветхий, но зато довольно большой. У двух других практикантов столы были маленькие. За одним сидела Гизи Керн, за другим — Агнеш Чаплар. И, что самое обидное, эти столы использовались всей конторой для свалки мусора. На них стояла корзина, и в нее бросали письма, папки, деловые бумаги, предназначенные для сдачи в архив. А так как у столов Агнеш и Гизи находился огромный шкаф, то, кто бы ни приходил искать в нем нужные документы, обязательно устраивался на этих столах. И тем не менее Миклош Кет то и дело ругал девушек за то, что они не могут навести у себя порядок. Даже из соседней бухгалтерии приходили рыться в делах. Все три бухгалтера были люди особенно неприятные. Они задирали нос, говорили на каком-то таинственном языке и ровно в половине шестого уходили домой. Их не интересовала отправка корреспонденции, их не мог вызвать к себе господин доктор в девять часов вечера, чтобы продиктовать письмо. Они только разбрасывали архив и постоянно жаловались, что ничего нельзя найти на месте. Да к тому же так командовали практикантами, будто сами руководили фирмой, хотя старше всех по возрасту был только господин Лустиг. Он носил нарукавники и каждый день рассказывал о том, как он хотел попасть в музыкальную академию. Две другие девицы, Йолан Добран и Анна Декань, были почти ровесницами Агнеш Чаплар.
Госпожа Геренчер высунула нос из-за двери докторского кабинета.
За пятью письменными столами никого не было. Она подошла к столу Агнеш Чаплар и положила записку: «Позвони своему возлюбленному. Пусть присылает за прошениями о валюте». И, возвратившись в комнату юрисконсульта, уселась по-домашнему в кресло против письменного стола, положила на колени тетрадь и застыла в ожидании, когда старик начнет диктовать письмо. На руке у нее громко тикали большие мужские часы. Половина третьего. К четырем часам она напишет корреспонденцию в Лондон, к пяти сбегает домой и пообедает. Разумеется, до половины шестого ей не справиться с почтой, практиканты опять будут ворчать, что в полночь приходится идти на почту. Такая уж нынешняя молодежь. Свидания, кино, концерты, только работать не любят. Ну что ж, пусть учатся уважать труд. Когда госпожа Геренчер была практиканткой, она частенько отправлялась на почту и после одиннадцати вечера.
«Дорогие Гезе и Андриш, как я сообщал вам в последнем письме…» И госпожа Геренчер сразу же переводит на английский:
«Dear Géza and Andris, as I told you last time…»
Так однообразно проходил день в конторе Завода сельскохозяйственных машин. На окне госпожи Геренчер висела плотная штора, сквозь которую даже нельзя было увидеть, светит ли на дворе солнце или идет снег. На улице продавцы газет выкрикивали названия городов… Дюнкерк, Париж, Тобрук, затем Сталинград, Воронеж, Татарский перевал. Но сюда не доносилось ни звука.
В два часа ночи в квартире управляющего фирмой Миклоша Кета раздался звонок. Первым проснулся восьмилетний Габи. Подумав, что это опять воздушная тревога, он в испуге выскочил из кроватки и торопливо стал запихивать в маленький рюкзак свои сокровенные богатства — игрушечную железную дорогу, книгу сказок, полплитки шоколада и хранимую под подушкой тетрадь со стихами, дневниковыми записями и неприличными рисунками.
Со вторым настойчивым звонком вскочил с постели и Кет.
— Повестка, — сказал он жене, и сам удивился, какой у него спокойный голос. — Неплохо будет, если ты приготовишь мою форму.