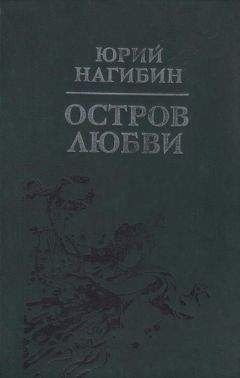Желая избежать встречи с Бахом — а Швальбе был уверен, что композитор не замедлит явиться, — он быстро собрался и укатил на свою пустошь, откуда подался в Дрезден. Намаявшись в неуютных гостиницах, испортив желудок, он вернулся в Лейпциг преисполненный к кантору церкви св. Фомы чувств, весьма близких ненависти.
И все время он тщился понять, каким образом угодил в ловушку, расставленную для другого. Началось с того, что его разозлила независимая, отдающая самодовольством повадка полуслепого старика. Захотелось озадачить его, уязвить, сбить с толку, поставить на место. Все правильно, но в какой-то момент он поддался своему артистизму, темпераменту и, смешно сказать, почти искреннему сочувствию гениальному неудачнику. И щелкнула пружинка капкана…
Бах в его отсутствие не заходил, и это давало надежду, что тот не принял всерьез обещаний, оброненных под влиянием минутного настроения, легкого помрачения рассудка, которое может постигнуть и самого уравновешенного человека от переутомления или дурной погоды.
Швальбе плохо знал мудрую и наивную, детски доверчивую душу музыканта. Бах был озабочен лишь одним: как можно скорее подготовить к изданию рукописные ноты. Каждую свободную минуту он проводил за просмотром и правкой своих сочинений. Опечаленная Анна Магдалена деятельно и покорно помогала мужу. То была каторжная работа. Похоже, Бах и сам изумлялся — сколько музыки сочинил он за свою жизнь! В чем, в чем, а уж в лености его не обвинит и злейший враг. И страшно было подумать, что весь этот исполинский труд мог превратиться, как пророчествовал Швальбе, в горку пепла или груду мусора.
Когда господин Швальбе появился в церкви, его встретила такая широкая, такая лучезарная, доверчивая и радостная улыбка Баха, что алчное сердце синдика на миг дрогнуло. «А что, если все-таки издать эти несчастные сочинения? Не разорюсь же я, в самом деле?..» Но то была последняя вспышка слабости. После этого синдик стал как железо. Вот таким, и только таким, любил он себя.
Швальбе нетерпеливо ждал, когда Бах заговорит об издании, и ноздри его хищно раздувались. Но Бах молчал и только улыбался, словно они оба участвовали в каком-то веселом заговоре. И синдик молчал, но не улыбался. Он любил прямую схватку и ненавидел, когда его брали на измор. Нажим кротости, деликатности и веры был невыносим его нетерпячей душе. При этом сам он, когда надо, умел и затаиваться, и выжидать, и бить исподтишка, в спину. Но за противниками своими он признавал право лишь прямого, открытого наступления. Бах не думал наступать, и синдик решил принять меры. Пусть честолюбивый кантор поймет, что у него есть более насущные дела, нежели заботы о бессмертии. Господин Швальбе уже забыл, что сам вколачивал в упрямую голову Баха мысли об ответственности перед будущим и что музыка должна пережить своего творца.
И Бах ощутил как вспенилось и забурлило вкруг него житейское море. Опять пошли разговоры о распущенности учеников певческой школы, занятых лишь вышибанием денег у горожан и провизии у деревенских, о небрежении должностью равнодушного кантора, переложившего все заботы на плечи старших учеников; к сему присовокуплялось, что консистория и магистрат не намерены дольше терпеть заносчивой нерадивости своего подчиненного, который жалованье получает от города Лейпцига, но, чуть что не по нем, шлет наветы курфюсту в Дрезден. А он-то думал, что подобные разговоры остались в далеком прошлом.
Но еще хуже было другое. Вновь усиленно стал обсуждаться проект ректора Эрнести, закоренелого недруга Баха, о превращении певческой школы в обычную гимназию. Мол, нынешнему времени требуются образованные люди, а не сиплоголосые певчие, и в основу школьного обучения должна лечь общеобразовательная программа, пению же следует отвести скромное место, как предмету второстепенному. Ректорский проект подрывал самую основу существования семьи Баха.
Удивлял странный поворот событий: нечаянная радость и порожденные ею надежды вдруг разом сменились напастями и преследованием. Известно, что за сегодняшнее счастье приходится расплачиваться завтрашней болью, но здесь расплата что-то уж слишком поторопилась. За тень надежды и призрак счастья платить приходилось действительными неприятностями. Неужели тут есть какая-то связь?..
Он убедился в этом вскоре после исполнения своей новой кантаты. Он давно уже не создавал кантат и был блаженно и тягостно полон, как переспелый плод — аж трещит и лопается кожица под напором сладчайшего сока. И он дал густому соку выношенных идей излиться в эту кантату. Бах редко бывал так доволен собой и обрадовался, когда при выходе из церкви столкнулся с господином Швальбе. «Набравшись нахальства», как он сам выразился, передавая Анне Магдалене свой разговор с синдиком, Бах спросил высокочтимого господина Швальбе: достойна ли кантата занять место в его собрании сочинений?
Тот не ответил на вопрос, но, побледнев от ярости, прошипел в лицо Баха:
— По-вашему, существование господа бога нуждается в доказательствах?
Никогда еще тягчайшее, да и опасное для создателя духовной музыки обвинение в рассудочности, рационализме, отсутствии простой, теплой веры не выражалось с такой злобной откровенностью. И кто же выступил обвинителем? Человек, как никто другой понимавший и чувствовавший его музыку!
— Вы считаете, что спастись можно только через мысль? — безжалостно напирал Швальбе.
Бах мог бы много сказать в свою защиту, но тут ему вспомнилось опечаленное лицо Анны Магдалены над кипами нот, ее глубокие вздохи, и ему открылась истина. Да, он был крепкодум, медленно усваивал новое, нелегко менял мнение, но уж если понимал что-то, то до самого конца. И сейчас все тягостные события, огорчения и недоумения последнего времени связались в один тугой узел с ядовитыми фразами, выплюнутыми синдиком ему в лицо. По счастью, этот узел легко развязывается.
— Господин Швальбе, — тихо, но очень внятно произнес Бах, — позвольте сказать о другом. Мне хотелось бы разрешить одно недоразумение, по-видимому возникшее между нами. Я вовсе не жду, что вы поможете мне издать мои сочинения. Вы никогда ничего мне не обещали, и у меня нет ни малейшего права рассчитывать на вас в докучном и обреченном на провал деле. Я и сам поставил на нем крест.
— Ну это напрасно, напрасно! — пробормотал Швальбе, и бледное лицо его стало медленно и жутковато наливаться тяжелой темной кровью. — Человек должен верить и надеяться. Нам не дано знать будущего. Быть может, наши желания, неисполнимые сегодня, осуществятся завтра.
— О, конечно! — улыбнулся Бах. — Не сомневаюсь, что именно так и будет со всеми вашими желаниями. Для себя же я желаю лишь одного — покоя.
— Вы его вполне заслужили, господин Бах! — Твердость нерушимого купеческого слова прозвучала в голосе синдика.
На этом можно было бы поставить точку, но артистическая натура Баха прорвалась сквозь благолепную бюргерскую оболочку:
— Вы казались мне дьяволом, господин Швальбе, а вы всего-навсего бедный провинциальный черт.
И господин Швальбе вдруг съежился, как будто из него выпустили воздух, и сказал покорно:
— Вы правы, добрейший Бах, я действительно лишь бедный провинциальный черт… Но я упомяну вас в завещании.
— Вы очень добры, господин Швальбе, расточительно добры! — И Бах, смеясь, пошел прочь, но на душе у него было черно…
Господин Швальбе не упомянул Баха в завещании по той причине, что, подобно многим суеверным людям, не позаботился составить его своевременно, считая, что для выражения последней воли еще достаточно времени впереди, ан времени и не оказалось. Да ведь противно в расцвете лет и сил устраивать свое посмертное хозяйство. И хотя по отсутствии наследников Швальбе намеревался все нажитое завещать городу для благотворительных целей, а это легче, чем обогащать людей, только и ждущих твоей смерти (Марихен за многообразные услуги причиталась весьма скромная сумма), нотариус не успел перешагнуть порога его дома. Исход синдика Швальбе был внезапен и нелеп.
Заподозрив, что хозяин водит ее за нос, Марихен решила прояснить будущее и радостно объявила ему о своей беременности. У нее не было четкого плана, все зависело от того, как примет известие господин Швальбе. В случае чего беременность могла оказаться и ложной. Но если бы синдик обрадовался наследнику и пожелал вступить в законный брак с матерью своего будущего ребенка, ловкая женщина представила бы младенца в положенный час, недаром ее настоящее имя было Мариула. Но меньше всего рассчитывала цыганка на те открытия, которые обрушил на нее разъяренный синдик. Потеряв голову от гнева и ревности, господин Швальбе не подверг и минутному сомнению признание Марихен. Ее измена потрясла его гордость, отняла уверенность в своей силе и власти, лишила всякой осмотрительности. Подлый расчет Марихен был ясен, как день. Она воспользовалась его отсутствием, когда он бежал от Баха сперва на пустошь, потом в Дрезден, чтобы понести от прохожего молодца, и, обманув его мнимым отцовством, женить на себе. А ведь он обязан был предвидеть такую возможность, когда давал ушлой девке свои лживые посулы. Он сам во всем виноват! И, бешено злясь на себя, Швальбе еще сильнее ненавидел изменницу, бесстыжую, наглую тварь, вздумавшую завладеть его добром с помощью чужого пащенка. И почти с наслаждением выложил Марихен всю правду о себе. «Так ты пустоцвет?» — каким-то странным оползающим голосом произнесла Марихен и что есть силы ударила себя кулаком в лоб. А потом она валялась у него в ногах, каясь в глупом, но необидном для чести господина обмане, клялась в любви и верности, умоляла вызвать доктора Теофилуса, чтобы тот удостоверил ее полную невиновность. Но синдик остался глух. Он выгнал Марихен из дома, даже не позволив толком собраться. Она ушла в слезах, прихватив лишь тощий узелок.