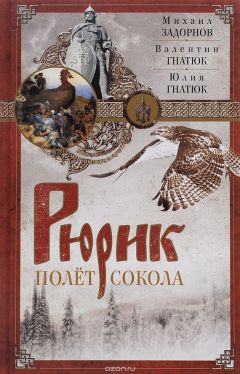Налюбившись всласть и вымывшись, просветлённые и исполненные тихой радости, лучащейся из очей, они оделись во всё чистое и отправились к речке. Овсенислав с Младобором и Ярославом уже вовсю прыгали через большой костёр, очищаясь златокудрым Семаргловым огнём. За ними – Вышеслав с Беляной, а там и Звенислав с Живеной воздали почтение Огнебогу. А старый дед хотя и прыгал позже всех через малый жар, но подпалил край рубахи и свою длинную бороду, которая занялась огнём. Звенислав с сыновьями кинулись к деду, повалили его наземь и сбили пламя. Испугалась, увидев это, Цветена и не стала прыгать через огонь. Сколько ни уговаривали её и ни поясняли, что дедушку поцеловал сам Огнебог Купальский и это добрый знак, однако не смогла девочка превозмочь страх.
А спустя какое-то время прицепилась к ней лихоманка трясучая, стала бить и скручивать дитя, обсыпать то жаром, то холодом. Девочка перестала кушать, лежала бледная, обескровленная, и на ножках стоять уже не могла. Почернела от горя вся семья Звенислава – всеобщей любимицей была щебетунья Цветенка. К тому же женщин в семье Лемешей было трое, включая Цветену, супротив шестерых мужчин. Эта семья у деда Лемеша была второй. Первую всю вырезали кочевники, когда он находился в походе. В шестьдесят лет женился во второй раз на сорокалетней женщине, та родила ему Звенислава, но умерла при родах. Жена Звенислава Живена родила ему троих сыновей, но жену и детей имел только Вышеслав. Двадцатитрёхлетний Овсенислав был женат, но жена и дочь умерли от какой-то болезни. А двадцатиоднолетний Младобор был чрезвычайно скромен и всё не мог найти себе пару.
Беляна, сидя над угасающей дочкой, рыдала и причитала:
– Рассердился, видно, Купало, что не прыгала ты через огонь в Его день, вот и пришло Лихо… Я ли тебя от того Лиха не хранила, не берегла… А ты лежишь теперь, касаточка моя, того и гляди, уйдёшь, мать свою бросишь, навек покинешь…
Чёрная от горя ходила Живена, и старый прадед плакал над своей ясноглазой правнучкой и молился богам, прося:
– И на что мне жить те сто пять лет, а тебе, малютке, помирать? Услышь меня, Даждьбоже, призови к себе старого, что уже счёт годам потерял и другим больше не в помощь, а правнучку Цветенушку оставь в Яви под солнцем своим!
Может, услышал Даждьбог, а может, так пришлось, только сидел как-то дед, на летнем солнышке грелся, да и уснул. Ярослав прибежал будить деда полдничать, а его голубиная душа уже в Навь отошла.
Умер старик, а правнучка его Цветена с постели поднялась.
Накалили тогда в бане-мовнице камни, вымыли-выпарили Цветену дочиста с купальскими травами, чтобы больше никакая хворь к ней не пристала. Там же в последний раз омыли и деда.
У леса вырыли ему Вечную Яму и положили головой на заход, а руки и ноги подобрали, как младенцу в утробе матери, поскольку тело его возвращалось в лоно Земли, а душа улетала в пречистую Сваргу, где она пребудет до часа означенного, покуда не обретёт новое тело и вновь когда-то вернётся на землю.
Рядом с дедом положили его берестяную клюку, ковш и деревянную ложку. В ковш насыпали пшеницы и проса и ещё положили старую соху.
– А зачем зерно в ковш насыпали? – спросил, утирая слёзы, Ярослав.
– Затем, сынок, – отвечал Вышеслав, – чтоб не голодал дед наш в Нави, а пахал и сеял новые угодья, для того и соху ему положили.
– Так ведь прадед старый, не может он поле пахать, и соха старая, – возразил Ярослав.
– Это здесь, на земле, тело старое, а душа, сынок, никогда не умирает и вечно молодой остаётся. Улетит она в Сваргу синюю и встретится там с другими душами, и соха там будет новая, и жизнь – иная, без болезней и страданий. И будет жить дед наш, трудясь и радуясь, сверху на нас глядеть и улыбаться, – объяснял сыну Вышеслав.
Вернувшись домой, впервые сели на Красной половине справить Малую Тризну по старому огнищанину, воину и труженику. Беляна с Живеной подали молочную лапшу, рыбу, жаренную с травами, и каждому – стопу блинов со сметаной. Но самой первой поставили варёную пшеницу с мёдом, и каждый, прежде чем приступить к страве, взял по ложке. Потом наливали из глиняного кувшина хмельного мёда и пили по очереди, вспоминая добром дедовы земные дела и благодаря за Цветену. И на то место, где дед должен был сидеть, поставили ковшик мёда и положили кусок хлеба. Желали ему в Нави добрых урожаев, крепкого скота и согласной жизни с женой, которая уже сорок лет его там дожидалась.
После того дня прошла седмица.
Рано утром послышались чьи-то голоса, шум и конский топот. Звенислав, выйдя из жилища, увидел несколько хазарских возов с плетёным верхом, обтянутым шкурами. Остановившись на широком пустыре между землянками и рекой, они возбуждённо переговаривались, подтягивая волосяные верёвки, обвязывавшие груз. Трое, взяв кожаные мехи, пошли к реке за водой.
Огнищанин, подойдя, поздоровался:
– Здравы будьте, честные гости! Кто будете и куда едете?
Молодой круглолицый хазарин с тонкими чёрными усами ответил на хорошем славянском:
– Купцы мы, из Киева домой возвращаемся.
– Отчего ж не расторговались или торг в Киеве плох стал?
Хазары переглянулись, молодой что-то сказал старшему на своём языке, кивнул и повернулся к Звениславу.
– Война будет, – хмуро ответил он. – Ваш каган Сффентослаф на нас идёт…
Мрачным было лицо Звенислава, когда он спустился в землянку и сел в переднем углу.
– Откуда гости? – спросил старший сын.
– Из Киева, – нехотя промолвил отец.
– А куда едут?
– В Хазарию возвращаются. Святослав идёт на них…
– Так, – промолвил Вышеслав и покачал головой, – что ж теперь делать?
– Что делать… То, что положено мужчинам в такой час. Садиться на коней и ехать в Ратный Стан.
Звякнул и покатился по полу медный котелок. Живена безмолвно, как немая, опустилась на лаву. Беляна с громким криком прильнула к груди Вышеслава.
– Как же это? – побелевшими губами прошептала Живена. Перед её взором промелькнуло страшное видение детства, когда из большой огнищанской семьи она одна уцелела, забившись под лаву, покрытую шкурой. Не разглядел её вражеский воин, чей точно – она не помнила. Но холод сиротского детства и страх одиночества вмиг сжали сердце. Война, которая не щадит ни старого, ни малого, что может быть ужаснее для мирных тружеников. Война!
– Собирай, мать, нас с Вышеславом и Овсениславом в дорогу. А Младобор дома останется помогать вам по хозяйству, держать в порядке пашню и скот. А мы уж там будем стараться, чтоб не дошли до наших мест вражеские полки. Вот и всё сказано!
Звенислав говорил намеренно буднично, чтобы не разрыдались женщины, не испугались внуки, не было суеты в сборах. И хотя зашлось сердце Живены, сдержалась она, подчиняясь мужниной строгости, позвала Беляну и принялась хлопотать, собирая припасы в путь.
Даже рано утром перед самой дорогой, когда сидели на лавах, Живена держалась, хотя сердце разрывалось, а глаза не могли наглядеться на мужа и сыновей.
Только когда мужчины сели на коней и, махнув рукой на прощание, поскакали по дороге, упала Живена, как серпом подкошенная, на землю и зашлась вырвавшимся наконец стоном-рыданием. Горячие слёзы застлали очи, скрыв уносящихся всадников. Плакала, повалившись перед богами на Красной половине, Беляна, и билась на земле у дороги, как смертельно раненная утица, Живена. Вослед им заголосили, попрятавшись по углам, Ярослав с Цветеной.
– Ой, горе мне горькое! – причитала Живена. – Уехали мои соколики! Кто теперь меня, старую, приголубит, кто в сырую землю положит? Я ли богов не просила, я ли мать Макошь не молила, как мне теперь одной быть-оставаться, подобно былиночке на поле скошенном, подобно листку, с древа опавшему…
Младобор подошёл, обнял мать за плечи и сказал, голосом подражая отцу:
– Братья с отцом в Киев отъехали, а не на поле ратное. Может, врут гости хазарские и скоро вернутся наши, а ты по ним, как по деду покойному, убиваешься. Вставай, негоже так плакать! Скотину пора поить, молоко доить, а как солнце выше взойдёт, надо идти в поле пропалывать яровицу…
Встала мать, утёрла слёзы. Пошла с коровами управляться, а сама думала: может, правду речёт Младобор и муж с сыновьями скоро вернутся домой, а скотина не кормлена, молоко не доено…
Живена с усердием принялась за работу, так что забылась на время. Только когда сели вечерять, глянула на пустые места за столом и опять заплакала.
Солнце скрылось за лесом, а вскоре на небе показалась ладья Макоши, окружённая звёздами, будто Сварожья наседка цыплятами.
Беляна с Живеной всё возились по хозяйству, стуча ухватами и горшками, перемывали ложки и плошки, украдкой смахивая набегающую слезу.
Растревоженные Ярослав с Цветеной всё не могли уснуть, ворочались, толкали друг дружку и хныкали. Беляна строго цыкнула на них, и малыши боязливо притихли.