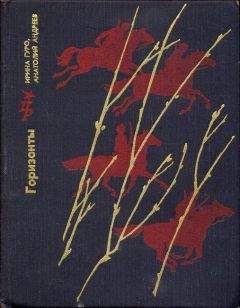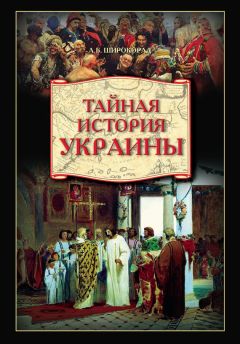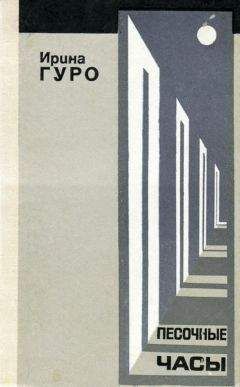Судьбы, похожей на ее судьбу, не было, но были другие, тоже нелегкие. Баловней здесь не имелось.
Фрося именно в работе примерилась, притерлась к подругам. А потом, в общежитии, «вагонке» — нары были на четверых: вверху и внизу, как в вагоне, — общение продолжалось, стало естественным.
Люба сначала жила в клубе, спала на диване. Потом, когда освоились в поселке, вместе с Фросей они сняли комнату у шахтерской вдовы. Хозяйка почти не бывала дома, нянчила внучат, у сына была квартира в «конторском» доме, где жили инженеры.
Фрося и Люба подружились не только потому, что вместе приехали и что познакомил их Василь Моргун, — дружба возникла, пожалуй, от этого, но продолжалась и углубилась сама по себе. Это было удивительно для окружающих, потому что Люба была как огонь, а Фрося — как тихая лесная речка.
Вечерами они выходили в степь, сидели на кургане, пели тихие песни. Иногда чумазые, веселые парни задевали их. Люба отшучивалась, но Фрося молчала, она чувствовала себя чужой. Только раз, когда на их участке объявлен был аврал и все, и она тоже, сутки не поднимались из шахты, — она ощутила свою связь с людьми, работающими рядом. Это дало ей минутную радость, тотчас погасшую в смертельной усталости.
Сначала казалось: вся жизнь до краев полна этой усталостью. Прошло много времени, пока ее не то чтобы не стало, но усталость как бы потеснилась, образовался просвет. Фрося узнала многих ближе и дивилась, как широк мир, как много в нем разных людей. А когда-то ей казалось, что весь он ограничен белой монастырской стеной.
В клубе Любе помогал плотник Левушка. Он был настоящим умельцем, все успевая: и на шахте, и в клубе, и «пособить» был готов каждому. Ему уже было двадцать восемь, но казался он моложе. Держался с девушками просто, как с сестрами. Он всегда был в курсе дел на шахте, и через него Фрося поняла больше, чем работая сама под землей.
— Вы что? Вы злого времени и вовсе не помните, — говорил Левушка, — а я хлебнул его вволю. Отец рано помер, утонул в половодье, а нас — четверо, ребятишек. Вот снарядила меня мать, завязала в узелок чистую рубаху и пару запасных лаптей и наказала мне идти в дальнее село к отцовой сестре. Добирался я то попутной телегой, то пешком — поездов боялся, да и денег у меня не было. Добрые люди кормили: я то дров наколю, то тын починю, то коровник вычищу. Однажды пришлось мне заночевать в поле в стоге сена.
Проснулся утром и слышу: идет пальба из пушек за лесом. Вышел на дорогу, а там видимо-невидимо войска, идут и едут, да все краснозвездные, и песня знакомая: «Отречемся от старого мира…» Засмотрелся я на ладных ребят с шинельными скатками через плечо, с винтовками за плечами. А я хлопец был справный, хоть впроголодь, а вымахал под потолок. Мне кричат: «Давай, хлопчик, к нам, чего за мамкин подол держаться! Пошли буржуев бить!» Как услышал я, аж весь загорелся: какого черта мне от той тетки надо? Кого там бить и за что, соображал я плохо, но одно понял: не надо искать тетку, которая еще и неизвестно, примет ли, а то по шее надает! Взялся за грядку обозной телеги и зашагал, не зная куда.
А через день стоял вторым номером у пулемета «максимки» — жаркий бой был с беляками! И воевал, пока не прогнали беляков. Ранен был, вон шрамик остался на шее, пуля на излете поцеловала. В двадцать втором вернулся я домой, уходил мальчонкой, пришел — красным бойцом: в гимнастерке с красными петлицами на груди, «разговорами» назывались, в кожаных сапогах, — у нас в семействе никто их не имел, первый я заявился в сапогах! Мать постарела, почернела, братья по свету разбрелись. Бедно, голодно… Пошел к старшему брату на шахту в Донбасс. Мать ревела: «Под землей жизни не будет». Однако привык.
Левушка был первый шахтер, с которым Фрося познакомилась поближе. Они все казались ей особыми людьми, а Левушка был обыкновенный, деревенский. Он и не собирался оставаться на шахте, только и мечтал вернуться в деревню, накопив денег. Построить настоящий дом, жениться на деревенской. Работать в колхозе. Разве ж можно всю жизнь под землей? Нет, под землю только за «длинным рублем» лазят, не на всю жизнь в шахту, а на худший ее отрезок. Зато потом…
Фрося понимала его, но ей казалось, что на шахте работают другие люди, у которых главное — здесь. Люба слушала Левушку, самолюбиво хмуря короткие брови, говорила: «Меня комсомол прислал на шахту, но я могла и отказаться. А не отказалась. Значит, буду здесь обживаться».
Младший брат Любы работал на шахте. Коногоном. Фрося его никогда не видела. Она избегала задиристых, чубатых парней. Уж если Люба такая бойкая, каков же брат?
Люба принимала все близко к сердцу, ругала начальство: «Не могут дело поставить. Наша «Наклонная-бис» — чуть не самая отсталая шахта по всему Донбассу». «А нам что?» — думала Фрося. И не верила, что где-то лучше.
В комнате у Любы и Фроси было чисто и тихо. Фрося в первый раз в жизни имела вроде бы собственную крышу над головой. И убрала комнату по своим понятиям. «Ух ты! — одобрила Люба, — ну прямо келья! Меня маленькую бабка на богомолье брала!»
Фрося испугалась, но поняла, что слова Любины случайные. Фрося никому не рассказывала свою историю. На беглые вопросы: «Ты откуда?» — отвечала, улыбаясь: — «Ниоткуда». Иногда объясняла подробней: сирота, работала в артели вышивальщиц. Вот и все.
Она не могла бы сказать, что полюбила невзрачный этот поселок, — чего тут любить? Пыльная дорога между жидких садочков с пыльными кустами низкорослой рябины. Однотипные одноэтажные дома, крыши из толя, стены побелены, как повсюду на Украине.
Вечерами молодые шахтеры и девушки во главе с гармонистом, а иногда и с двумя, выходят «к оврагу» — всегдашнее место прогулок, все равно как главная улица в городе. Овраг тянется далеко, трава на дне его и на склонах густая, сочная, такую не найдешь в степи: течет в глубине неширокий, но чистый ручей. Было в этом месте что-то отрадное, и как-то само собой получалось: только выходили сюда, на край обрыва, располагались пестрым табором, и сразу сменялась лихая шахтерская частушка задумчивой украинской песней. Почему-то и говорили здесь тише и вроде бы помедленней. Это нравилось Фросе.
Она не сразу стала ходить «к оврагу». В толпе совсем юных девчат казалась она себе старой, медлительной, неповоротливой, «особенной». Она давно отучилась от «монастырской» походки, усвоенной с ранних лет: широкий плавный шаг с чуть приподнятым носком при размахе, но что-то осталось в ней — скованность в движениях, негромкость речи. «Я кажусь им странной, непохожей ни на кого», — думала она иногда с горечью, иногда с отчаянием.
В работе она забывалась, там ведь главным было — не отстать. Она не отставала даже на откатке, быстро овладев искусством беречь каждую минуту, а внимание, оно у ней выработалось годами монастырской работы.
Сначала вечера были только для сна, усталость валила с ног, и оттого жизнь была только работой, а люди показывались ей только в работе. По мере того как она осваивалась, появились вечера… Летние длинные вечера, когда закат повисает над степью, каждый день по-другому окрашенной, и стоит яркой полосой долго-долго, а в другой стороне неба вспыхивает цепкий голубой глаз звезды. Тянет из оврага прохладой и томным запахом разнотравья. Фрося не знала здешних трав, но чудилась в нем и приторность мяты, и тонкое веяние чабреца, и что-то еще пряное, чужое, от здешних степных мест.
Люба была в центре гуляния у оврага. В ее размашистости, в легкости обращения со всеми была притягательность для многих. Даже начальству шахтному могла она бросить ядовитое словцо или потребовать дерзко, настоятельно то, что не осмелились бы другие. Фрося не завидовала, но дивилась ей. Для нее был внове этот характер, и она догадывалась, что Люба умеет подчинить себе жизнь, а не плыть по ее течению. Но этого Фрося не могла и, казалось ей, никогда не сможет.
Фрося только что закончила стирку и развешивала белье на веревке во дворе. Дворик был у них неказистый, огорожен не забором, как другие в шахтерском поселке, а тыном, совсем по-деревенски. На кольях торчали крынки и горшки, насаженные для просушки. Фрося выскочила во двор, как была, в подоткнутой юбке, в старой кофтенке с засученными рукавами. Она вся ушла в свое занятие, нагибалась, брала из корыта, стоящего на земле, постиранное, сильным движением встряхивала и аккуратно расправляла на веревке.
Солнце еще не садилось, но спряталось за тучу — как раз сейчас дождя не хватало! Фрося озабоченно посмотрела на небо, но взгляд ее ухватил непредвиденное: в трех шагах от нее над тыном высилась фигура: человек великанского роста, просто невиданного! Но Фросю испугало лицо, она узнала его тотчас: смоляной чуб спускался из-под картуза до самых бровей, рот распялился в широкой белозубой ухмылке, на темном лице глаза зеленели дерзко и не мигая. Он это, конечно, он промчался тогда со свистом и грохотом, повторенным и усиленным под сводами коренного штрека. «Коногона испужалась!» — вспомнила она и сразу, как и тогда, успокоилась.