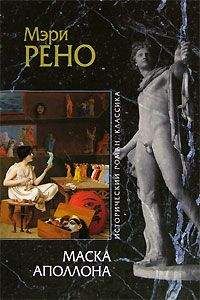Все эти парламентеры с Ортиджей кончились ничем; война на суше затихла. Но часть боевых триер Дионисия решила перейти к Сиракузам, и у Гералита оказалось уже шестьдесят кораблей. Однажды он услышал, что Филист пошел к проливам, и решил, что час его славы настал. Флоты столкнулись, Филиста окружили; когда взяли его галеру, он лежал на корме с мечом в груди. Ему было почти восемьдесят, потому не сумел сработать чисто и был еще жив. Гераклид всегда знал, как понравиться, и отдал его на потеху толпе.
Конечно, можно сказать, он знал, чего заслуживает; потому и пытался покончить с собой. Он был правой рукой обоих тиранов, с самого начала. Но о нем можно сказать и то, что он оставался верен сыну, от кого мог взять всё что захочет; хотя отец сослал его по одному лишь подозрению… Что он вообще за оружие взялся в этом возрасте, когда мог бы уплыть куда угодно с мешком золота и умереть в покое, — одно это требовало уважения, пусть и неприязненного. Но что случилось — случилось: это была еще одна смерть Фитона; хотя не было тирана который приказал бы ее, а только вольные граждане Сиракуз. Осадной башни у них не было; да они и не стали бы ждать целый день. Его раздели донага, связали… Из-за раны его нельзя было прогнать по улицам, — так протащили волоком; и каждый прохожий делал с ним, что хотел. В конце, когда стало ясно, что он без сознания и позабавиться больше нечем, ему отрубили голову, а тело отдали мальчишкам. Они привязали его за ногу, сломанную в бою пятьдесят лет назад, и таскали, пока не устали; а после бросили на кучу дерьма. Дион узнал, когда Филист был уже мертв.
Тимонид, который был тогда с Дионом, рассказывал мне после в Академии, что в ту ночь Дион заперся и не спал. Он всегда верил, что честь порождает честь… Он пот свой и кровь свою проливал, чтобы освободить этих людей; в них была часть души его… Нечего удивляться, что когда Гераклит — всеобщий герой — пил с капитанами, Дион к пиру не присоединился. Давным-давно, в Дельфах, когда убили Мидия, я видел, что он этого просто не понял. Он не знал толпу. Он даже сейчас так и не уяснил себе, что представляют собой люди, которым в течение двух поколений приходилось жрать дерьмо. Его не устраивала жалость к ним или ярость к тем, кто их так развратил; он хотел убедить себя, что сама свобода их облагородит. Когда они предали его в бою, он их простил: он был солдат и не слишком много ждал от необученных людей. Наверно, впервые его зацепило вот это убийство. Наверно, он начал раздумывать, что такие люди сами не понимают своего блага; если предоставить их самим себе, они будут страдать хуже, чем при тирании, и опустятся еще ниже… А ведь Сократ учил Платона, — а Платон его, — что лучше претерпеть зло, чем сотворить.
Осень начинала закрывать моря, но в Италию через проливы корабли проходили; в хорошую погоду они весь год курсируют. Морских битв больше не случалось; но в общественном мнении Гераклит стоял теперь вровень с Дионом. Он был мил и приятен со всеми, и не скрывал мнения, что Сиракузы должны управляться точь-в-точь, как Афины; то есть народным собранием и общим голосованием. Однако, необходимость главнокомандующего была очевидна, пока Дионисий сидел в Ортидже. И Гераклид плел интриги, чтобы добиться равной доли в командовании.
Не знаю, что сделал Дионисий, когда узнал, что Филиста больше нет и ему придется воевать самому; скорее всего, напился. Но что достоверно, — вскоре он послал Диону предложение о сдаче Ортиджи. Дворец, крепость, корабли, вся армия с пятимесячной оплатой вперед, — всё уходило в обмен на охранную грамоту для него по дороге в Италию, и на ежегодный доход с его собственных поместий.
Теперь Диона, наверно, подмывало выставить свои условия. Но он поклялся честью своей зачитать все предложения перед народом; и для него это решило дело. Народ единогласно сказал нет. Они попробовали крови Филиста; а насколько слаще должна быть кровь хозяина! Чтобы пойти на такое предложение, Дионисий должен уже при последнем издыхании быть; и всем захотелось взять его живым. Тщетно Дион пытался им втолковать, что всё, — всё, за что они боролись, — уже у них, если только захотят. Они только думали (и говорили тоже): «А вот он ничего не выстрадал!» В Сицилии месть в почете. Некоторые говорили, что Дион должен был получить предложение получше прежнего, чтобы отпустить тирана безнаказанным; но он же и родня тирану… Гераклид против этих слухов не выступал. Быть может и на самом деле им верил; о человеке, которого ненавидишь, легко думать самое скверное. Послы вернулись домой ни с чем, осада продолжалась. Гераклид проводил всё больше времени на берегу, занимаясь политикой. А в одно туманное осеннее утро, когда наблюдатели флота не слишком старались, Дионисий с небольшим отрядом, увозившим все его драгоценности, поднялся на борт и ушел. Когда об этом стало известно, он был уже в Италии.
В Афинах ни о чём больше не говорили когда узнали. Величайшая тирания Эллады рухнула, свергнутая человеком, взращенным в Афинах; почти афинянином, можно сказать. Седовласые философы носились по Академии, как мальчишки; Аксиотея с подругой кинулись целовать меня в оливковой роще… Они же рассказали мне то, что не было еще известно улице: Ортиджа еще держится и без хозяина, а комендантом там оставлен Аполлократ. Этого даже я не ожидал; если сын похож на него, то война можно считать выиграна; и мы решили, что праздновать можно уже сейчас. Еще и вспомнили, что недавно падучая звезда пролетала по небу; такая яркая, что ее видели в дюжине городов; ночь в день превратила.
Много народу учиняли пиры в честь события; в том числе и мы с Фетталом. Теодор рассказал нам замечательную историю. Он недавно играл в Македонии перед новым царем, Филиппом, которого — сказал он — убить будет посложнее, чем прежних. Похоже, когда появилась яркая звезда, тот горный царь решил, что она была послана в его честь; поскольку он выиграл какую-то битву, и колесничную гонку, и жена его родила сына. Он и весь его двор пили всю ночь. А спустя несколько недель пришла великая новость из Сиракуз. Так что мы просто посмеялись над варваром и его претензиями, и стали пить за свободу всех греков.
— О, Никерат! — воскликнула Аксиотея (она была первой, кому я сказал). — Ты на самом деле на Сицилию? Как бы я тебя ни любила, почти ненавижу! Где ты там собираешься играть? Не в Сиракузах же, раз там до сих пор осада?
— Играть я вообще не собираюсь. Хоть раз в жизни еду просто ради удовольствия. А почему бы и нет, пока могу, пока в силе?
— В силе? Как льву подобный Диомед? Мне за тебя просто стыдно. Феттал тоже едет?
— Нет, он в Ионии. Он теперь полноправный партнер, и освободится только через несколько недель. Это я делаю только для себя, исключительно. Видел, как начиналось это предприятие; и хочу быть там, когда оно будет увенчано.
Высказанные слова мне не понравились. Когда актер-трагик говорит о венках, — и особенно если он сам только что выиграл венок, — он говорит о трагедии. Я только что высказал по ошибке худое слово, плохой знак; обычно я осторожен с такими словами, это на меня не похоже.
Я спросил, какие новости. Тимонид еще писал Спевсиппу; но тот со всеми делами в Академии, исследованиями, и с архивами компании, был слишком занят и не слишком доступен, так что я видел его редко. Аксиотея ответила, что последнее письмо было неделю назад, и особых перемен, похоже, нет. А потом добавила:
— Но мы в последнее время не всё видим. Раньше, бывало, вслух читали. Конечно, сейчас и новостей меньше… Похоже, что этот Гераклид (ты же знаешь, он никогда не был одним из наших) до сих пор всякую бяку учиняет. Ты его когда-нибудь видел?
— Однажды. Один момент. Принял его за простого, честного солдата; а на самом деле он не таков. Ему надо было стать актером. Но в своей труппе я бы его не хотел. Он из тех, кто прячет твою маску — и играет блестящие импровизации, пока ты ее ищешь.
— Ты знаешь, что он сделал, чтобы вернуть восхищение горожан после того как упустил Дионисия? Предложил на Собрании, чтобы все земли в Сиракузах разделили поровну!
— Что? Сейчас? — удивился я. — Пока еще война идет? Не верю.
— Но это правда! Эту часть письма я видела.
— На Сицилии… Да там и куска луковой грядки никто без боя не отдаст! Там же мятеж поднимется; а потом вылазка из Ортиджи, — и Дионисий снова дома.
— Наверно, Гераклид это знает не хуже Диона. Но сказать «нет» пришлось Диону.
Мы сидели на мраморной скамье возле статуи героя Академа. В вечернем свете его тень падала далеко за нас; длинный тонкий гребень шлема и десять локтей копья на траве.
Чуть погодя, она добавила:
— Мы всегда слушали все письма… Говорят, Дион изменился.
— Сомневаюсь. Скорее, и пытаться измениться перестал.
— И Платон изменился, — сказала она.
— Вот тут я готов тебе поверить.
— Когда он молодой был, ты знаешь, он ведь путешествовал, как Солон и Геродот. В Египте учился. Он не считает, как большинство, что всюду варвары, кроме Эллады. Даже про Македонию не считает. Но он всегда учил, что законодательство для любого города должно составляться соответственно тому количеству людей, которые в этом городе думать могут. Когда-то он верил, что таких будет много, если их можно свободно выбрать из бедных и богатых и вместе обучать. Он и сейчас предпочитает личные достоинства происхождению; но теперь не верит, что таких людей достаточно, чтобы оно сработало. Вот и всё.