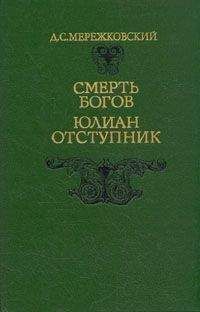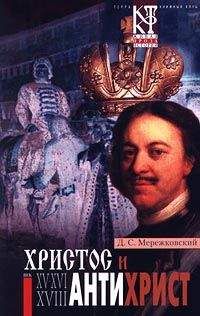Расскажите, возлюбленные, врагам и друзьям моим, как умирают эллины, укрепляемые древнею мудростью.
Он умолк. Все опустились на колени. Многие плакали.
— О чем вы, бедные? — спросил Юлиан с улыбкой.Непристойно плакать о том, кто возвращается на родину…
Виктор, утешься!..
Старик хотел ответить, но не мог, закрыл лицо руками и зарыдал еще сильнее.
— Тише, тише, — произнес Юлиан, обращая взор на далекое небо.-Вот оно!..
Облака загорелись. Сумрак в палатке сделался янтарным, теплым. Блеснул первый луч солнца. Умирающий обратил к нему лицо свое.
Тогда префект Востока, Саллюстий Секунд, приблизившись, поцеловал руку Юлиана:
— Блаженный август, кого назначаешь наследником?
— Все равно, — отвечал император. — Судьба решит.
Не должно противиться. Пусть галилеяне торжествуют.
Мы победим — потом, и — с нами солнце! — Смотрите, вот оно, вот оно!..
Слабый трепет пробежал по всему телу его, и с последним усилием поднял он руки, как будто хотел устремиться навстречу солнцу. Черная кровь хлынула из раны; жилы, напрягаясь, выступили на висках и на шее.
— Пить, пить! — прошептал он, задыхаясь.
Виктор поднес к его губам глубокую чашу, золотую, сиявшую, наполненную до краев чистой родниковой водой.
Юлиан смотрел на солнце и медленно, жадными глотками пил воду, прозрачную, холодную, как лед.
Потом голова его откинулась. Из полуоткрытых губ вырвался последний вздох, последний шепот:
— Радуйтесь!.. Смерть-солнце… Я-как ты, о, Гелиос!..
Взор его потух. Виктор закрыл ему глаза.
Лицо императора, в сиянии солнца, было похоже на, Лицо уснувшего бога.
Прошло три месяца после заключения императором Иовианом мира с персами.
В начале октября римское войско, истощенное голодом и бесконечными переходами по знойной Месопотамии, вернулось в Антиохию.
Во время пути, трибун щитоносцев, Анатолий подружился с молодым историком Аммианом Марцеллином.
Друзья решили ехать в Италию, в уединенную виллу около Бай, куда приглашала их Арсиноя, чтобы отдохнуть от трудного похода и полечиться от ран в серных источниках.
Проездом остановились они на несколько дней в Антиохии.
Ожидались великолепные торжества в честь вступления на престол Иовиана и возвращения войска. Мир, заключенный с царем Сапором, был позорным для Империи: пять богатых римских провинций по ту сторону Тигра, в том числе Кордуэна и Регимэна, пятнадцать пограничных крепостей, города Сингара, Кастра-Маурорум и неприступная древняя твердыня Низиб, выдержавшая три осады, переходили в руки Сапора.
Но галилеяне мало думали о поражении Рима. Когда в Антиохию пришло известие о смерти Юлиана Отступника, запуганные граждане сперва не поверили, боясь, что это сатанинская хитрость, новая сеть для уловления праведных; но поверив, обезумели от радости.
Ранним утром шум праздника, крики народа ворвались сквозь плотно запертые ставни в полутемную спальню Анатолия. Он решил целый день просидеть дома. Ликование черни было ему противно. Старался опять уснуть, но не мог. Странное любопытство овладело им. Он быстро оделся, ничего не сказал Аммиану и вышел на улицу.
Был свежий, но не холодный, солнечный осенний день.
Большие круглые облака на темно-голубом небе сливались с белым мрамором бесконечных антиохийских колоннад и портиков. На углах, рынках и форумах шумели фонтаны.
В солнечно-пыльной дали улиц видно было, как широкие струи городских водопроводов скрещиваются подвижными хрустальными нитями. Голуби, воркуя, клевали рассыпанный ячмень. Пахло цветами, ладаном из открытых настежь церквей, мокрой пылью. Смуглые девушки, пересмеиваясь, окропляли из прозрачных водоемов корзины бледных октябрьских роз и потом, с радостным пением псалмов, обвивали гирляндами столбы христианских базилик.
Толпа с немолчным гулом и говором наполняла улицы; медленным рядом двигались по великолепной антиохийской мостовой — гордости городского совета декурионов — колесницы и носилки.
Слышались восторженные крики:
— Да здравствует Иовиан август, блаженный, великий!
Иные прибавляли: «победитель», но неуверенно, потому что слово «победитель» слишком отзывалось насмешкой.
Тот самый уличный мальчик, который некогда марал углем на стенах карикатуры Юлиана, хлопал в ладоши, свистел, подпрыгивал, валялся в пыли, как воробей, и выкрикивал пронзительно:
— Погиб, погиб сей дикий вепрь, опустошитель вертограда Божьего!
Он повторял эти слова за старшими.
Сгорбленная старуха в отрепьях, ютившаяся в грязном предместьи, в сырой щели, как мокрица, тоже выползла на солнце, радуясь празднику. Она махала и вопила дребезжащим голосом:
— Погиб Юлиан, погиб злодей!
Веселие праздника отражалось и в широко открытых удивленных глазах грудного ребенка, которого держала на руках смуглая исхудалая поденщица с фабрики пурпура; мать дала ему медовый пирожок; видя пестрые одежды на солнце, он махал с восторгом ручками и вдруг, быстро отвертывая свое пухлое грязное личико, обмазанное медом, плутовато посмеивался, как будто все отлично понимал, только не хотел сказать. А мать думала с гордостью, что умный мальчик разделяет веселие праведных о смерти Отверженного.
Бесконечная грусть была в сердце Анатолия.
Но он шел дальше, увлекаемый все тем же странным любопытством.
По улице Сингон приблизился он к соборной базилике.
На паперти, залитой ярким солнцем, была еще большая давка. Он увидел знакомое лицо чиновника квестуры, Марка Авзония, выходившего из базилики в сопровождении двух рабов, которые локтями прочищали путь в толпе,
«Что это?-удивился Анатолий.-Как попал в церковь этот ненавистник галилеян?» Кресты, шитые золотом, виднелись на лиловой хламиде Авзония и даже на передках кожаных пунцовых туфель.
Юний Маврик, другой знакомый Анатолия, подошел к Авзонию:
— Как поживаешь, достопочтенный? — спросил Маврик, с притворным насмешливым удивлением, осматривая новый христианский наряд чиновника.
Юний был человек свободный, довольно богатый, и переход в христианство не представлял для него особенной выгоды. Внезапному обращению своих друзей-чиновников ничуть не удивлялся он, но ему нравилось при каждой встрече дразнить их расспросами, принимая вид человека оскорбленного, скрывающего свое негодование под личиной насмешки.
Толпа входила в двери церкви. Паперть опустела.
Друзья могли беседовать свободно. Анатолий, стоя за колонной, слышал разговор.
— Зачем же не достоял ты до конца службы? — спросил Маврик.
— Сердцебиение. Душно. Что же делать, — не привык…
И прибавил задумчиво:
— Странный слог у этого нового проповедника: гиперболы слишком действуют на меня — точно железом проводит по стеклу… странный слог!
— Это, право, трогательно, — злорадствовал Маврик.Всему изменил, ото всего отрекся, а хороший слог…
— Нет, нет, я, может быть, еще просто во вкус не вошел— перебил его, спохватившись, Авзоний. — Ты не думай, пожалуйста, Маврик, я ведь искренне…
Из глубоких носилок медленно вылезла, кряхтя и охая, жирная туша квестора Гаргилиана:
— Кажется, опоздал?.. Ничего,-в притворе постою.
Бог есть Дух, обитающий…
— Чудеса!-смеялся Маврик.-Св. Писание в устах Гаргилиана!..
— Христос да помилует тебя, сын мой! — обратился к нему Гаргилиан невозмутимо, — чего это ты все язвишь, все ехидничаешь?
— Опомниться не могу. Столько обращений, столько превращений! Я, например, всегда полагал, что уж твои верования…
— Какой вздор, милый мой! У меня одно верование, что галилейские повара нисколько не хуже эллинских.
А постные блюда — объедение. Приходи ужинать, философ! Я тебя СКОРО обращу в свою веру. Пальчики оближешь.-Не все ли равно, друзья мои, съесть хороший обед в честь бога Меркурия или в честь святого Меркурия.
Предрассудки! Чем, спрашивается, мешает вот эта хорошенькая вещица?
И он указал на скромный янтарный крестик, болтавшийся среди надушенных складок драгоценного аметистового пурпура на его величественном брюхе.
— Смотрите, смотрите: Гекеболий, великий жрец богини Астарты Диндимены — кающийся иерофант в темных галилейских одеждах. О, зачем тебя здесь нет, певец метаморфоз?!-торжествовал Маврик, указывая на благообразного старика, умащенного сединами, с тихой важностью на приятном розовом лице, сидевшего в полузакрытых носилках.
— Что он читает?
— Уж конечно не правила Пессинунтской Богини!
— Смирение-то, святость! Похудел от поста. Смотрите, возводит очи, вздыхает.
— А слышали, как обратился?-спросил квестор с веселой улыбкой.
— Должно быть, пошел к императору Иовиану, как некогда к Юлиану, и покаялся?
— О, нет, все было сделано по-новому. Неожиданно.
Покаяние всенародное. Лег на землю в дверях одной базилики, из которой выходил Иовиан, среди толпы народа и закричал громким голосом: «топчите меня, гнусного, топчите соль непотребную!» И со слезами целовал ноги проходящим.