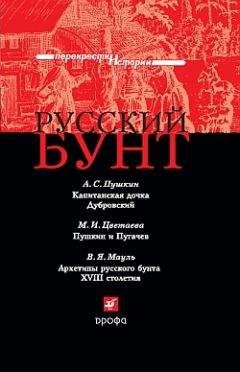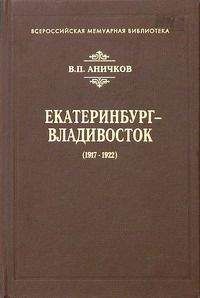Не последнюю роль в разжигании страстей играло и такое обстоятельство, как низкий уровень жизни народа (в большинстве своем – крестьян) на протяжении нескольких столетий. Будучи в значительной мере зависящим от природно-климатических условий, крестьянское хозяйство часто становилось жертвой стихийных бедствий, неизменными спутниками которых были неурожаи и голод. Показателем же неустойчивости материального положения сельского населения, его нищеты служили резкие смены настроений и колебания психики. Неустойчивость настроений масс, легко впадавших в панику, приводила к внезапным взрывам возмущения с сопутствовавшей им жестокостью. В моменты подобных взрывов на поверхность общественной жизни выступал примитивный пласт сознания.
Провоцировало готовность простецов к неограниченным кровопролитиям и осознание ими справедливости и законности своих действий, наличие своего рода «санкции на насилие», исходящей якобы от царя или от общины-мира. Уверенность в поддержке со стороны царя хорошо прослеживается, например, в распространенности слухов о существовании государевых указов бить бояр.
Очень показательны в этом отношении локальные кратковременные восстания. Так, во время бунта в Устюге Великом в 1648 году некий церковный дьячок И. Яхлаков «носил бумагу согнута, а говорил во весь мир, что-де пришла государева грамота с Москвы, а велено-де на Устюге по той государевой грамоте 17 дворов грабить». Цепная реакция восстаний в июне – июле 1648 года происходила по мере того, как распространялся слух, что «указал-де государь по городам приказных людей побивать камением», а также под влиянием рассказов о восстании в Москве и других городах, участникам которых «ничего не учинили» [23; 143; 136; 68, 158, 161]. Не сомневаясь в поддержке государя и не дожидаясь положительной царской реакции, простолюдины переходили к протестным действиям, сопровождавшимся насильственными расправами.
Важным элементом бунтарской психологии было представление о собственном достоинстве, особом, но равном достоинству правящей элиты. В ходе народных движений повстанцы требовали того же уважения к себе, каким пользовались вышестоящие в социальной иерархии. Поэтому «возвышение» протестовавших нередко достигалось за счет унижения противника.
Необходимо также указать на постоянную готовность русских людей к бунту – как воображаемому, так и буквальному – против любых правовых норм. Эта готовность оказывалась зеркальным отражением векового противостояния народа государственному деспотизму. «Бунт... взламывает бытие и помогает выйти за его пределы... Источником бунта... является переизбыток энергии и жажда деятельности. Бунтующий человек... стремится поначалу не столько одержать верх, сколько заставить уважать себя». «Логика бунтаря – в служении справедливости, дабы не приумножалась несправедливость удела человеческого, в стремлении к ясности языка, дабы не разбухала вселенская ложь, и в готовности сделать ставку на счастье» [44; 130, 340]. Трактовка русского бунта как защитного механизма традиционной культуры в переходный период позволяет полностью согласиться с таким мнением.
Наличие у социальных низов в России XVII – XVIII веков названных установок, стереотипов и ори-ентаций объясняет их потенциальную готовность при необходимости прибегнуть к ничем не сдерживаемому насилию против тех, кого они считали своими врагами. В ходе движений социального протеста рождался феномен толпы. Без этого деструктивная энергия масс, по-видимому, «дремлет».
Согласно мнению исследователей психологии масс, в толпе индивид перестает быть самим собой. Он становится беспрекословным исполнителем чужой воли, поддается общему потоку. В толпе резко повышается инстинкт деструктивности, она становится безжалостной и беспощадной. Активизацию данного обстоятельства объясняют несколькими причинами. Прежде всего это чувство анонимности, возникающее в толпе, благодаря чему человек ощущает безнаказанность и отсутствие ответственности за свои поступки. Он становится способным на действия, немыслимые для него вне толпы.
Другая причина – феномен заражения, когда каждое чувство и действие, возникающие в толпе, словно вирус, заражают окружающих. «Это явление вполне естественное, и его можно наблюдать даже у животных, когда они находятся в стаде. В толпе все эмоции также точно быстро становятся заразительными, чем и объясняется мгновенное распространение паники». При этом зараза «настолько могущественна, что она может внушать индивидам не только известные мнения, но и известные чувства» [54; 241 – 243].
Еще одной причиной насильственных действий бунтовщиков была их повышенная внушаемость, которая объясняет необычайную восприимчивость участников народных движений к повстанческой агитации, особенно со стороны вождя.
Совокупное действие названных и иных факторов, многократно усиливаемое различными конкретно-историческими обстоятельствами жизни страны в переходный период, приводило к тому, что простолюдины не только брались за оружие, но и начинали грабить, насиловать и убивать. В результате насилие и бунт связывались самым непосредственным образом. Однако, для того чтобы понять социокультурную природу казней бунтовщиками своих противников во время протестных движений, одних только психологических трактовок явно недостаточно. Необходимо рассмотреть ритуально-символическую подоплеку кро-вавых расправ, чинимых участниками протеста.
Как известно, мир человека в традиционном обществе был наполнен разного рода символикой. В самом общем виде символ – это особый знак, образ, выражающий идею или комплекс идей, обладающих для людей особым смыслом. Символ всегда имеет глубоко архаическую природу и восходит к дописьменной эпохе, когда определенные знаки представляли собой свернутые мнемонические[42] программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной памяти коллектива.
С этой точки зрения эволюцию общественной психологии можно рассматривать как смену различных знаковых систем. Причем каждый знак-символ для человека был полон глубочайшего смысла, за который не жалко отдать и жизнь. Вспомним, например, готовность виднейшего идеолога старообрядчества про-топопа Аввакума и многих его последователей умереть «за единый аз».
Присутствие символической стороны у той или иной сферы человеческой жизнедеятельности является свидетельством ее соприкосновения с пространством культуры. Чем сложнее символизм, тем глубже ощущалось это взаимодействие. Не удивительно, что в ходе пугачевщины символика также играла важную роль. Можно сказать, что практически вся деятельность пугачевцев была проникнута символическим смыслом. Здесь и знамена, и медали с орденами, и чеканка монет, и титулование сподвижников самозваного императора «графами», «высокосиятельными господами», «полковниками», и пышные церковные службы во имя «спасшегося императора», и мн. др.
Печать Пугачева (Большая государственная печать Петра Третьего) (1774).
Несомненной также представляется и глубокая религиозность людей доиндустриальной эпохи. Однако религиозные верования «простецов» едва ли отличались всесторонним знанием догматики: ритуал, обряд, а не догма – вот основа основ их веры. Поэтому религиозность общественных низов в России отличалась от официального богословия. Народная культура в России характеризовалась сложным переплетением православных и языческих традиций, мифологии, бытовых норм, житейского опыта, смекалки и т. д. Все названные обстоятельства, несомненно, сохраняли свою актуальность и во время бунта 1773 – 1775 годов под предводительством Е. И. Пугачева. При этом в поведении пугачевцев они зачастую обнаруживались не явно, а на уровне архетипическом, что свидетельствует об их укорененности и архаичности, истоками уходящими в символический мир прошлого.
Поэтому ритуальный символизм повстанческих казней не имел четко выраженной формы, их мифологические истоки можно только предполагать. Однако такое заявление не исключает возможности рассмотрения вопроса о символическом характере пугачевских расправ в целом. Многие современники и потомки, кстати говоря, только к насилию и сводили все содержание пугачевщины. Вспомним, что даже А. С. Пушкин дал весьма емкую и нелицеприятную характеристику бунтарства на Руси.
Обратившись к событиям пугачевского бунта, попытаемся предложить некоторые возможные объяснения насильственных действий российских бунтовщиков. При всем их несовершенстве и гипотетичности они намечают перспективные пути решения поставленной проблемы и позволяют наконец-то сдвинуть дело с мертвой точки. По справедливому суждению В. М. Соловьева, «мрачные стороны пугачевского бунта» требуют исторического осмысления «величайшего трагизма мятежа» [112; 193].
Анализируя источники по истории пугачевщины, видим, что одной из «излюбленных» казней бунтарями своих противников было повешение. Нередко можно встретить упоминания о ней в таких выражениях: «повесить», «повесил», «убивать людей и вешать», «вешивал», «перерубить и перевешать» и т. п. Даже казачий фольклор сообщает: если «кто какую грубость или супротивность окажет – тех вешали на площади тут же. Еще Пугач не выходил из избы суд творить, а уж виселица давно стоит. Кто к нему пристанет, ежели не казак – по-казацки стричь; а коли супротив него – тому петлю на шею! Только глазом мигнет, молодцы у него приученные... глядишь, уж согрубитель ногами дрыгает» [143; 317].