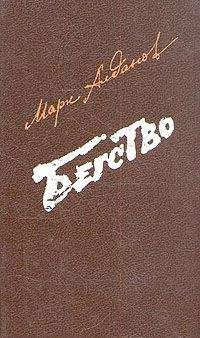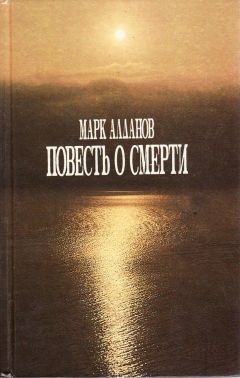Они вышли из Трубецкого бастиона и быстрым шагом направились куда-то в сторону. «Как странно, что дождь, такой тихий, тихий дождь… И как все просто!.. Вот и смерть… Витя сейчас спит… Несчастный Витя!.. Да, скорей все запомнить о земной жизни», — подумал Николай Петрович. Но и запомнить было нечего.
Вдали чернели тени. Где-то сверкнул красный огонек. Яценко почувствовал, что он спокойнее, чем был у себя в камере. Он пытался даже сообразить, где будет происходить расстрел. Ориентироваться в темноте было очень трудно. Николаю Петровичу казалось, что они идут к реке. «Почему же они без оружия? В карманах, что ли, наганы? При свете фонаря расстреливать не могут. Значит, там будет свет… Ничего не видно… Хороший какой дождь… Вот сейчас и дождя не будет… Где же другие?.. Неужели сегодня я один!.. Еще запомнить небо», — вспомнил Николай Петрович. Небо было черное и суровое. «Может быть, сейчас сзади выстрелят в затылок?» — подумал он и, вздрогнув, поспешно оглянулся. Шедший сзади человек как будто дремал на ходу, заложив руки в рукава и вдавив шею. «Зароют, верно, тут же… Жидкая грязь, поглубже бы… Ведь сейчас должны быть ворота?..» Капля дождя упала ему на шею и поползла за воротник. Они очутились перед стеной. Стало совсем темно. «Кажется, своды… Значит, выходим!.. Что такое!..» Капля проникла под рубашку, Николай Петрович, морщась, выгнул спину. Вдруг спереди заблестели огни. Он увидел перед собой Неву. Внизу, у ярко горевшего фонаря, чуть покачивалась на воде лодка. Вдали чернела большая баржа. «Да, может, и не на расстрел ведут! Увозят куда-нибудь?.. В Шлиссельбург?..» — подумал Николай Петрович. В нем засветилась необыкновенная, невероятная радость. «Нет, не может быть!.. — сказал он себе. — Что же это такое!..»
Сзади послышалась музыка, столь знакомая Николаю Петровичу. Только здесь она звучала так, как в камере никогда не звучала. «Ну, слава Богу!.. Еще раз довелось услышать!.. В такую минуту!..» — подумал Николай Петрович, едва сдерживая рыданья и стараясь сохранить в душе звуки курантов.
— …Большевики назвали тюрьму изолятором, а смертную казнь — высшей мерой социальной защиты. Сделали они это, собственно, просто по глупости, но глупость оказалась символической, и символ стал убийственным не для одних большевиков… Несчастье нашей эпохи в том, что никаких твердых, подлинных ценностей у нас нет и не было: были звонкие слова, к содержанию которых не было ни настоящей любви, ни настоящей ненависти. Сократ и люди, угостившие его цикутой, исходили из прочных моральных ценностей, — в сущности одних и тех же. В Варфоломеевскую ночь и убийцы, и жертвы одинаково твердо верили в Бога, в вечное спасенье, в загробную жизнь. Все войны в истории велись за право, за справедливость, за веру, за родину, и даже хитрецы, для своей выгоды посылавшие на смерть простых честных людей, врали только наполовину, — даром их разоблачает глубокомысленный историк, все видящий насквозь… Я очень далек от того, чтобы идеализировать прошлое. Но тогда была вера в будущее. У нас и этого нет. У нас ничего нет, Сергей Васильевич…
— Базаров, тот, помнится, хоть в лягушку верил, а?
— У нас нет и лягушки. Должно быть, эта вера в лягушку и останется последней твердой верой просвещенного человечества. Ничего у нас нет, ничего! Мы точно спросонья говорили… Или под наркозом: так не проснувшимся или пьяным людям кажется, будто они говорят дело, но слова их ничего не значат и бессмысленно виснут в пустоте. Такие у нас были слова: свобода, самовластие, гуманность, деспотизм, родина, человечество и много, много других звонких слов… Что не было обманом, то было самообманом. С какой легкостью на смену «человечеству» пришли и «Gott strafe England» и «les sales boches»[81], и Козьма Крючков, насадивший на пику сразу тринадцать швабов. С какой легкостью горячие русские патриоты оказались на наших глазах независимыми украинцами, независимыми литовцами, независимыми грузинами. И как незаметно-благозвучно тюрьма превратилась в изолятор, а «Столыпинский галстух» в «высшую меру»…
— Красно говорите, Александр Михайлович, — сказал с удовольствием Федосьев. — Много в этом и правды… Хоть на мой взгляд, чуть поверхностны ваши слова, уж вы меня извините: что ж так все валить в одну кучу, без логических разграничений, без политического анализа! В этом есть неуважение к чужой вере… А человек, неизлечимо больной демократическими взглядами, пожалуй, вам скажет: «Parlez pour vous»[82] — и по-своему он тоже будет прав: у них ведь строго по части либерального мундира и знаков отличия за беспорочную службу демосу. Демос их послал к черту, но они беспорочную службу продолжают. Казалось бы, теперь слепому ясно, что демосу наплевать и на чужое право, и на чужую свободу. Может быть, ему наплевать даже и на свою собственную свободу, но уж на чужую наверное. Иными словами, демократия сама себя укусила за хвост. Это, разумеется, неприятно; если же в такой невыгодной позе сохранять величественно-спокойную улыбку: ничего, мол, не случилось, то, пожалуй, и несколько смешно, а?
— Меня особенно трогает ваше уважение к чужой вере, — сказал Браун. — Не мешало бы иметь уважение и к чужому неверию… Да и вообще я часто замечал: люди, очень горячо отстаивающие уважение к вере, всякую неприятную им политическую или философскую веру готовы смешать с грязью.
— Однако, согласитесь, Александр Михайлович, что четыреххвостку нельзя приравнивать к религии. Во всяком случае на людей с такой религией скоро во всем мире будут пальцами показывать: нельзя же в самом деле разгуливать по бирже в костюме эдемского ангела!
— Да ведь в этом-то, повторяю, и драма: старые ценности умерли, новых нет. Мир три тысячи лет держался своего рода предустановленной гармонией, о, не в философском, не в лейбницевском, а в самом обыкновенном житейском смысле слова: по счастливому стечению обстоятельств, человек всегда рождался в той самой вере, которую всю свою жизнь единой спасительной и считал. Потом дьявол искусил: нет, ты подумай, да сравни, да поищи… Чего уж тут ждать хорошего? То, что могло дать жизни не пошлый и не временный смысл, давно стало анахронизмом… Жить надо было либо вечно, либо очень недолго.
— Уточните понятие анахронизма. Европа от римского папы теперь пришла к передовому фармацевту: папу разоблачила, но фармацевта признала. Значит ли это, что история мысли на фармацевте и остановится?
Браун безнадежно развел руками.
— Все шуточки, скептические шуточки, — сказал он. — И Победоносцев ваш скептически шутил, и Валуев скептически шутил, и Тютчев скептически шутил… Одни Россию проболтали, другие Россию прошутили… Урожай на Монтеней был у нас почти такой же обильный, как на Дантонов. А нужен был Энвер и его не нашлось. Мы с вами неудачные кандидаты. Не в этом дело… Я где-то читал: когда в Японии умирает император, его тело под гробовую музыку отвозят в усыпальницу в колеснице, запряженной черными волами. Потом этих волов умерщвляют голодом… Мы черные волы, Сергей Васильевич!
— Судя по предыдущему, я этого не вижу. Вам и на кладбище-то провожать было нечего.
— На землю надвигается тьма, — не слушая Федосьева, говорил Браун, — густая тьма, мрак, подобного которому история никогда не знала. Мрак не реакционный, а передовой и прогрессивный в точном смысле слова. Теперь, кажется, и сомнений быть не может: большая дорога истории шла именно сюда, мировой прогресс подготовлял именно это! История прогрессивно готовила штамп прогрессивной обезьяны, и мы стали свидетелями великого опыта полной обезьянизации мира.
— Нет, уж на историю, пожалуйста, не взваливайте. История, как нотариус, она любой акт зарегистрирует, ей что! Это вы, господа, готовили злую штампованную обезьяну, для которой мы, грешные, держали про запас клетку. А вышло так, что мы-то, все же были изверги и обскуранты, а вот мы умницы и идеалисты. Может быть, немного заблуждавшиеся по своему идеализму, но такие хорошие, такие милые, — со злобой сказал Федосьев. — Памятник не памятник, а так небольшую статуэтку и вам всем поставить не худо… Заметьте, ведь мы-то никому ничего особенного и не обещали. По моим понятиям, государственный деятель в нормальное время должен делать то, что делает хороший городовой на перекрестке оживленных улиц: он регулирует движение, пропускает то одну людскую волну, то другую, стараясь никого не раздражать, когда нужно поднимает палочку. Разумеется, если у него на глазах не горит дом и не работает шайка разбойников… Наше дело маленькое. Это опять-таки ваши друзья, по своей любезности, так щедро раздавали обещания за чужой счет. Ах, да что об этом рассуждать, я об этом и говорить не могу спокойно.
— Да и я, признаюсь, не хочу об этом говорить, особенно с вами, столь случайный мой собеседник и попутчик. Что до памятников и статуэток… Послушайте, та женщина, которая стреляла в Ленина… Вы думаете, через сто лет на месте покушения будет ей стоять памятник? Нет, памятник будет Ленину! Обезьяна поставит ему!