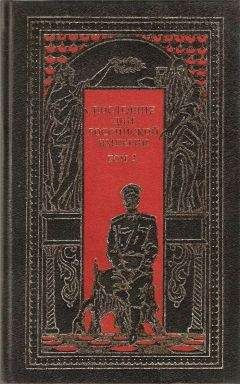Тёмными весенними ночами приходили из степи молодые исхудалые люди с горящими, как у волков, голодными глазами, крестились на иконы, садились на лавку и говорили тихо и вкрадчиво о донской старине, о вольности казачьей.
— Да разве такое бывало, — говорили они. — Иногородние сели на горб казакам и правят, а по какому такому праву? И кто их выбирал?
— Заслужили, значит, своё, — мрачно, глядя в сторону, говорил хозяин хаты и ближе подвигался к рассказчику.
— В Персиановском лагере церковь осквернили, над иконами святыми надругались… — тихо говорил пришелец.
— Митрополита по городу таскали… — добавлял он, помолчав.
— Офицеров перебили. А за что? Не такие же они казаки? Не наши сыновья или братья? — уже смелее досказывал он.
— И кто! И кто делаит-то всё это? Подтёлков, а кто он, Подтёлков? Слыхал ты его? Ума-то его пытал — что ли? Знаешь его способности? Он только вино жрать и здоров, — наконец высказывал затаённую свою мысль и хозяин хаты.
В Новочеркасске освободили из тюрьмы Митрофана Петровича Богаевского, помощника атамана Каледина, и привезли его в кадетский корпус.
— Рассказывай про былую славу нашу и вольность, — сказали ему казаки-голубовцы.
Без малого три часа говорил Митрофан Петрович. Это была его лебединая песня. Хмуро слушали его казаки. Тяжко вздыхали. Отвезли потом назад на гауптвахту. А когда пришёл к ним Голубов и стал своё говорить про советскую власть, раздались из рядов гневные окрики:
— Довольно… Завёл нас, сукин сын! Замотал сам не знает куда. Косились казаки на матросов и красногвардейцев, распоряжавшихся по Новочеркасску, косились, но молчали. Особняком держались. Своими казачьими караулами заняли музей и институт, не позволили осквернить собора. Чувствовалось, что разные люди стоят в городе и по-разному думают. Из станиц перестали возить хлеб и мясо на базар, и стало красное воинство недоедать.
Красноармейские банды, руководимые Подтелковым, Антоновым, Сиверсом и Марусей Никифоровой, расползались по железным дорогам. Это были красные дни красной гвардии. Дисциплины не признавали, вожди были выборные, да и их не слушались. Поход был кровавый хмельной праздник, охота на жирного буржуя, сплошной грабёж и издевательство. Путешествовали эшелонами, выходя из вагонов лишь для боя и грабежа. Тут же в вагонах везли и награбленное имущество, степных дорог не признавали и от железнодорожных путей не отходили.
В Новочеркасске свирепствовал Голубов, Подтёлков и Медведев, мрачный триумвират, в Ростове фон Сиверс расстреливал с балкона Палас-отеля между рюмками ликёра юнкеров, под Батайском шарила Маруся Никифорова — кавалерист-девица, собственноручно пытавшая пленных; путями юго-западной дороги, в Донецком бассейне «правил» гимназист Антонов, а в 20-ти вёрстах от Новочеркасска за разлившимся Доном, за голубыми водными просторами по станицам робко сидели комиссары из местной голытьбы, из лавочных сидельцев и аптекарских учеников и до смерти боялись казаков. Там шло все по-старому.
А могучая степь по-весеннему дышала, поднималась зеленью трав, вставала утренними туманами, играла днём волшебными миражами среди неоглядного солнечного простора и несла свои думы и рассказывала свои сказки казакам.
Настало время пахать, и «Господи благослови!» — запряг казак больших круторогих волов в плуги и вышел в степь поднимать Божью ниву. Наступило время работать в зелёных виноградных садах, и пошли казаки и казачки завивать лозы и устраивать «кусты», чтобы привольно было зреть винограду.
И в степи необъятной, и в садах прохладных, молодыми ярко-зелёными листочками лоз покрытых, услышали казаки вековечную правду. Тени предков явились в грёзах сонных на степных шалашах и по крутым садовым откосам, рассказал о ней плеском синих волн Тихий Дон, разлившийся по всему широкому займищу, и фронтовики, ходившие всю зиму панычами, стали заботно оглядывать плуги и бороны, стали выходить на свои паевые наделы. Хмарь и туман проходили. Лозунги и резолюции, шумные митинги казались тусклыми и ненужными, стыдно становилось содеянного.
«Эх! — говорили они. — Не на кого опереться. Что ж, его сила. Большевики-то весь русский народ. Кабы было на что опереться, стряхнули бы мы всех комиссаров».
Историк, который будет изучать противобольшевицкое движение, должен будет остановиться на следующих причинах, положивших начало оздоровлению юга России весною 1918 года. И первая причина была, конечно, та, что поборы, насилия и убийства, касавшиеся только горожан, «буржуев», офицеров и бывшие выгодными для казаков, так как давали им добычу, — коснулись и самих казаков. В марте большевики отправили из Новочеркасска матросов в станицу Кривянскую за мукою и скотом для продовольствия гарнизона. Коммуна стала осуществлять свои права. Их встретили топорами и дубьём. Был послан карательный отряд. Из-за Новочеркасского вокзала стали обстреливать Кривянскую артиллерийским огнём, сожгли до трёхсот хат, но казаков не испугали, но озлобили. И пришлось бы смолчать казакам, пришлось бы им покориться, если бы не сложились в это время все обстоятельства благоприятно для восстания.
Вторая причина была та, что явилась надежда у лучших казаков, что порядок восстановить можно, а у худших казаков явился страх ответственности. Тёмные, глухие, неясные неслись по степи слухи о немцах, уже пришедших на Украину и повсюду восстановивших порядок. Это приближение германских частей генерала фон Кнерцера сыграло двойную роль. Оно дало возможность опереться на немцев, создать из полосы, ими занятой, надёжную базу, с другой стороны, дало возможность возбудить патриотизм среди казаков и поднять их для того, чтобы не допустить немцев поработить себя.
Третья причина была та, что на Дону вместо людей расплывчатых решений и соглашательского характера, шатающихся между властью и демократией, явились люди сильного характера, твёрдой воли, страстные патриоты, способные владеть умами казаков. Такими людьми были Георгий Петрович Янов и полковник генерального штаба Святослав Варламович Денисов. Эти люди знали, чего хотели. Они сознавали, что Россия временно рухнула, провалилась в кошмарное небытие, разложилась на составные части, из которых ни одной русской не было. Создать из Войска Донского такую русскую часть стало идеею этих людей, и этой идеей они увлекли казаков.
Если к этому прибавить, что с востока шли, правда, весьма смутные слухи о том, что из Сибири идёт адмирал Колчак, а на западе упорно говорили, что с немцами идёт генерал Щербачёв со всею Румынскою армией, то ясно станет, что на Дону создавалось настроение боязливое, приближался тот «ответ», которого так боялись все впутанные в кровь и преступление казаки.
Эти-то условия, то есть то, что, во-первых, большевики сняли с себя маску и стали грабить и разрушать казачьи хозяйства, не признавая казачьей собственности; во-вторых, что появление твёрдо дисциплинированных германских частей на Украине и восстановление там порядка и собственности ободрило одних и испугало других; в-третьих, что на Дону появились честные волевые люди, которые в это трудное время взяли на себя власть и сумели осуществить её, опираясь на казаков же, а не на офицеров и «буржуев»; в-четвёртых, слухи о Колчаке и Щербачёве и создали почву, на которой смог установиться порядок на Дону и могла возродиться Добровольческая Армия.
И без этих условий Добровольческая Армия генерала Деникина никогда не смогла бы ни встать на ноги, ни оправиться, ни сорганизоваться.
Зашумели по станицам и хуторам дерзкие речи про комиссаров. Открыто, не потаясь читали на севере стихотворение в прозе донского писателя Ф. Д. Крюкова, директора Усть-Медведицкой гимназии, «Родимый край». Пророчески говорил в нём скромный Фёдор Дмитриевич:
«…Во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа, я ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной… Но всё же верил, всё же ждал: за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнёт волну наш Дон седой… Вскипит, взволнуется и кликнет клич, клич чести и свободы!»
«И взволновался Тихий Дон… Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики… Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна… Звенит и плачет, и зовёт… То край родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол».
«Кипит волной, зовёт на бой родимый Дон… За честь отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон, родимый край…»
Мартовским ясным вечером, когда над степью легла розовая дымка, а в станице сильнее стал пряный запах цветущих яблонь и вишен, вдруг на станичный бульвар, ведущий к собору и присутственным местам, высыпала толпа молодёжи. Гимназисты реального училища, прозванные шутниками «реальная сила», несколько офицеров в светлых погонах, казаки-подростки, сопровождаемые большою толпою казаков-стариков и фронтовиков 9-го Донского полка, шли за старым человеком в судейской фуражке. Это был почётный мировой судья Чумаков. Серые глаза его были полны слёз, седые усы беспорядочными прядями спускались к нижней губе, чёрное пальто моталось над запылёнными, длинными складками упадавшими на башмаки штанами. Вся толпа шла к станичному правлению, где заседали комиссары, требовать у них отчёта в их управлении.