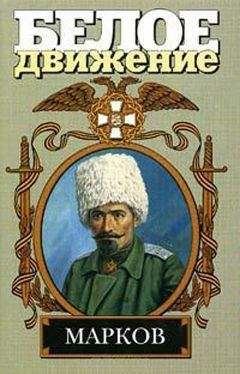— Что ж, Степаныч. Романовский давно нас ждёт, чтобы объявить приказ. Пошли связного Боровскому — пусть остаётся за меня.
Поднялись по дороге к роковому домику: выбитые окна, разбитая стена, обломки. Здесь закончился путь Корнилова, путь Добровольческой армии под его командованием. Не время его судить. Время идти дальше. Кто поведёт? Куда поведёт?
Штаб помещался в большой палатке, от её входа тянулась тонкая полоса света, резавшая ночную темноту.
Охрана окликнула, пропустила.
Если бы всё шло по правилам, то следовало бы доложить Деникину о том, что полк занимает оборону и готов к походу. Если бы ты, генерал Марков, был уверен в своём праве и не мучился бы сомнениями, то решительно сказал бы, что требуешь изменения приказа. Конечно, ты уверен, что тебе не нужна разбитая армия, а ты сам необходим офицерам и солдатам, потерявшим веру в успех и готовым разбежаться и бесславно погибнуть. Только ты, генерал Марков, сумеешь спасти этих людей, вывести их из-под удара противника, вернуть уверенность в победе и привести к победе. Но как объяснить это старому больному Алексееву, нуждающемуся в спокойствии и боящемуся конфликтов, — с Корниловым настрадался. Как убедить Деникина, что он не сумеет вести армию. Он — генерал той, большой войны, а в этой не выиграл ни одного сражения. Даже не участвовал ни в одном бою.
Нет. Не погубит, потому что в любом случае армию поведёт Марков, а он, командующий Деникин, будет по-хозяйски приглядывать за порядком, поглаживая бородку и мечтая о молодой жене. Ещё выговор тебе за что-нибудь объявит. Здесь всё наоборот. Он не нужен армии — ему нужна армия. Алексеев — сын солдата, Деникин — сын крепостного крестьянина, дослужившегося до майора... Мужички. Они знают свой дом, свою землицу, знают неизменный порядок жизни: весной — сеять, осенью — жать. Не страдают дворянско-интеллигентской рефлексией. Никогда не поймут, как можно что-то не взять, если оно само идёт в руки.
Сидели мужички, глядя на волнующегося потомственного дворянина, и ждали, что он поймёт незыблемый порядок и подчинится ему. Для больных стариков характерен стыдливо виноватый взгляд: стыдно за своё разваливающееся тело, мучает чувство вины за многочисленные жизненные ошибки, а то и за всю жизнь — сплошную ошибку. У Алексеева такой взгляд. Чувствует вину за то, что заставил отречься государя?
— Помните, Сергей Леонидович, наши разговоры по вечерам во время похода? — так начал сложный разговор Алексеев, старший среди присутствующих. — Мы говорили о тяжком бремени, лежащем на плечах главнокомандующего армией. Теперь это бремя взял на себя Антон Иванович, и мы все должны ему помочь.
— Я обязан выполнить волю нашего мученика, погибшего великого русского полководца Лавра Георгиевича, — даже слезинка появилась у Деникина и вышитый носовой платочек. — Единственное, что даёт мне надежду на успешное выполнение этой тяжкой миссии, — ваша поддержка, Сергей Леонидович. Твоя помощь, Серёжа. И ваша помощь, Николай Степанович. Мы же однополчане с 1914 года.
На лице Романовского — глубочайшая серьёзность, появляющаяся в тех случаях, когда никто не должен догадаться, каково истинное мнение начальника штаба. Он сказал, как о чём-то само собой разумеющемся:
— По мнению штаба, все боевые решения по армии могут приниматься только при участии Сергея Леонидовича.
«А ты когда-то писал матери, надеясь погибнуть от японской пули: «Такие, как я, не годны для жизни, я слишком носился с собой, чтобы довольствоваться малым, а захватить большое, великое не так-то просто. Вообрази мой ужас, мою злобу-грусть, если бы к 40—60 годам жизни сказал бы себе, что всё моё прошлое пусто, нелепо, бесцельно». И вот через 3 месяца тебе исполнится 40 лет, и ты не смог, да никогда и не сможешь занять подобающее тебе место в армии, в жизни. Не поведёшь победоносную армию на Москву а кто, кроме тебя, может совершить такой поход? Так и будешь поднимать цепи в атаку, размахивать нагайкой, пока не найдётся наконец твоя пуля».
— Среди офицеров идут разговоры... — начал было Тимановский, но Марков его перебил:
— Не надо о разговорах среди наших офицеров, Николай Степанович. Мы сумеем убедить их в правильности принятых решений.
— Теперь о дальнейших боевых задачах, — вздохом облегчения прозвучали слова Романовского. — Объявляем, что идём на север, в направлении станицы Старо-Величковской, но затем круто поворачиваем на восток с целью пересечь железную дорогу. В авангарде 1-й Офицерский полк 1-й бригады...
Покидая штаб, Марков получил экземпляр приказа.
Ǥ 1
Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии, в7ч30м31 сего марта[49] убит генерал Корнилов.
Пал смертью храбрых человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести её позора.
Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдался он на служение Родине.
Бегство из неприятельского плена, августовское выступление, Быхов и выход из него, вступление в ряды Добровольческой армии и славное командование ею известны всем нам.
Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой наши сердца и пусть не ослабнет воля к дальнейшей борьбе. Каждому продолжать исполнение своего долга, помятуя, что все мы несём свою лепту на алтарь Отечества.
Вечная память Лавру Георгиевичу Корнилову — нашему незабвенному вождю и лучшему гражданину Родины. Мир праху его!
§ 2
В командование армией вступить генералу Деникину.
Генерал от инфантерии М. В. Алексеев».
Возвращаясь в бригаду, Марков сказал помощнику:
— Объявишь приказ, Степаныч. Я не могу.
— Но, Сергей Леонидыч, офицеры должны знать твоё отношение к новому командующему. Если не увидят тебя, не услышат твоих слов, то могут... Даже боюсь предположить, что они могут сделать.
— Хорошо. Пусть Боровский строит полк в походную колонну — я подъеду и что-нибудь скажу.
Роты растянулись в колонну по дороге и ожидали команды на марш. Марков подъехал к 1-й роте и сказал громко, стараясь придать голосу убедительность и спокойствие:
— Господа! Командование армией принял генерал Деникин. Беспокоиться за судьбу армии не приходится. Этому человеку я верю больше, чем самому себе.
Хлестнул лошадь я поскакал вперёд, в ночь, к новым боям. К смерти. Такие, как он, не годны для жизни.
Жизнь вечная неизменно равнодушна к бесконечному множеству своих проявлений, мгновенно забывая о проходящем. У самой опушки хвойной рощи заставил остановиться неожиданный, успокаивающим теплом проникающий в душу запах только что испечённого хлеба. Под охраной сержанта возле дороги, на брезенте, сложены штабелем булки кубанского пшеничного.
— Для кого хлеб? — спросил генерал.
— Для кавалерии генерала Эрдели, ваше превосходительство. Они три дня не получали. Теперь вот в арьергарде пойдут.
— Отломи-ка мне горбушечку, сержант...
— Сергей Леонидович, — прозвучал знакомый голос. — Присоединяйтесь.
На валу, окружающем ферму по опушке, сидел генерал Богаевский с адъютантом. Они тоже ели свежий хлеб. Марков присел рядом. Хлебный дух жизни повернул мир другой стороной, почти исчезли тени погибшего командующего и связанных с ним ненужных воспоминаний, и оказалось, что в ночной роще холодно.
— Ваши уже подходят, — сказал Богаевский. — А я ещё здесь покурю.
— Хорошо вам в шинели, а я в своей куртке мёрзну.
— Найдём для вас шинель, Сергей Леонидович. Новенькую, генеральскую.
— Спасибо, но стоит ли? Лето скоро.
— Где-то мы будем летом? Вместе ли? Может быть, сейчас придётся в разные стороны разойтись, чтобы оторваться от красных. Вот и ваши.
Дружный топот сотен ног по сухой дороге, тёмная колышущаяся колонна с проблесками офицерских погон ц пуговиц. У некоторых на фуражках ещё остались белые ленты.
Савелов мог вернуться в полк — это опять война, и следующий снаряд уже не пощадит; мог идти с теми, перешедшими грань, бросившими винтовки и бредущими куда-то с пустыми лицами и потухшими глазами. Думал, сомневался, приходил в лазарет к Гулю, советовался с ним, но вечером 13 апреля выбора не стало: нет Корнилова — нет армии.
Пришёл в церковную сторожку, когда там грузились. К подводам тянулись на костылях, забинтованные, некоторых тащили на носилках. «Господа! — кричал обозный офицер. — Сначала только тех, кто может передвигаться. Только легко раненных. За тяжёлыми сейчас же вернёмся. Выгрузим легкораненых на артиллерийские повозки, кого и на передки посадим, и вернёмся за тяжелоранеными. Господа! Барышни сёстры! Несите обратно носилки. Тяжелораненых потом!..»