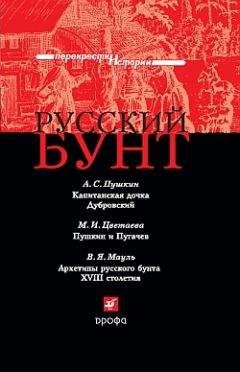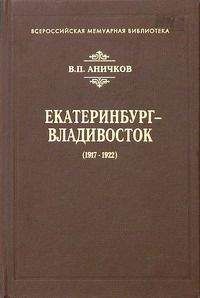Для примера процитируем характерное свидетельство о разинском бунте одного из современников, суть которого вполне отражала ощущения дворянства и в 1773 – 1775 годах: «Всюду говорили об убитых дворянах, так что господа, одев дешевое платье, покидали жилища и бежали в Астрахань. Многие крестьяне и крепостные, чтобы доказать, кто они такие, приходили с головами своих владельцев в мешках, клали их к ногам этого главного палача, который плевал на них и с презрением отшвыривал и оказывал тем хитрым героям почет вместе с похвалой и славой за их храбрость» [119; 366 – 367].
Напряженность психологических переживаний в годы пугачевщины хорошо передают слова ее участника Марушки, сосланного затем в Нерчинск. «Не пытали мы, – говорил он, – кто был Пугачев, и знать того не хотели. Бунтовали же потому, что хотели победить, а тогда заняли бы место тех, которые нас утесняли. Мы были бы господами, а вера свободной. Проиграли мы, что ж делать? Их счастье, наше несчастие. Выиграй мы – имели бы своего царя, произошли бы всякие ранги, заняли бы всякие должности. Господа теперь были бы в таком угнетении, в каком и нас держали» [108; 134].
Осознание господами «перевернутости» поведения бунтующего простонародья можно встретить и в более ранней истории массового протеста. Например, похожим образом в начале XVII века квалифицировал намерения восставших во главе с И. И. Болотниковым патриарх Гермоген. «А стоят те воры под Москвою, в Коломенском, и пишут к Москве проклятые свои листы, – сообщал он в своей грамоте, – и велят боярским холопем побивати своих бояр и жены их и вотчины и поместья им сулят, и шпыням и безъ-имянником вором велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают их воров к себе и хотят им давати боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество» [20; 197].
Не стоит удивляться, что на время пугачевского бунта дворянами «были полностью блокированы все традиционные реакции, связанные с патриархальными отношениями и мифом о “добром барине”. Однако и каких-либо серьезных размышлений, разрушающих существующие стереотипы, не возникало. Дворянство так и не увидело в низшем сословии противостоящую ему силу» [61; 228 – 229].
Поэтому в их сознании бунт персонифицировался в личности «злодея» Пугачева, на которого обрушивался основной запал господского негодования. Заметим, что издевательские ругательства, уничижительные эпитеты в адрес участников народного протеста несли в себе и глубоко символическую подкладку. Речь шла о соотнесенности повстанческого вождя и его дела с черными, колдовскими силами, отождествление его со вселенским злом. Из уст дворян явственно слышался отзвук традиционного языка. В таком контексте для господствовавших кругов становилось понятным, например, кощунственное разрушение бунтовщиками церковных святынь, о чем сообщали многие источники. Например, в Курмышском уезде в селах Никольском и Шуматове «в олтаре и в настоящей церкви полы выломаны; две оловянные дариносицы, два ящика, в которых было поставлено святое миро, выкрадено; крест серебреной, которым убит священник, разломав, злодеи по себе разделили; толковое евангелие разодрано, и петрахель и требник украдены» [90; 387].
На допросе под давлением следователей сам Пугачев «во всех чинимых им злодействах винился и показывал... как он, так и злодейской его шайки товарыщи, чинили... раззорение святым церквам и всем освященным в них сосудам и даже разрушением правилов, святых жертвенников и самых святых икон, с ругательством колонием оных, также и в убивствах в святых церквах священников и других людей, кои думали получить от тиранства злодейской его толпы спасение, были ж умерщвлены» [36; 221].
Такое отношение дворян к протестным действиям бунтарей обосновывало подозрения в возможной связи Пугачева с «чужими», «иными» землями, о чем очень беспокоилась сама императрица. Сообщая о действиях Пугачева, его сравнивали, например, с самозванцем Степаном Малым, «который в 1767 – 1773 годах владел Черной Горой и которого местное население принимало за русского царя Петра III». В Оренбурге, писал в своем донесении в Коллегию иностранных дел генерал Орлов, появился самозванец, «нечто похожее на Степана Малого в Черногории» [6; 399].
В другом случае, высказывая тревогу о возможных связях Пугачева с иностранными державами, правительство больше всего беспокоилось уже не о «дьявольских кознях» с их или его стороны, а об отстаивании своих внешнеполитических интересов. Иначе говоря, реакция дворянства на пугачевщину, хотя иной раз и адресовалась к традиции, в целом была вполне прагматичной и рациональной. И тем не менее представители господствовавшего и других сословий втягивались в затеянную казаками в условиях пугачевского бунта «игру в царя», будучи не в состоянии противостоять ее чарующей магии, что в культурной истории страны не было редкостью. К тому же любая игра заразительна, тем более «игра в царя», обладавшая особым магнетизмом, мистической привлекательностью. Да и как им не быть? Ведь ставкой в этой игре был не денежный приз, пусть и очень крупный. На кону стояла сама жизнь. Такая игра словно завораживала всех вокруг, интриговала, заинтересовывала и, как следствие, вела к расширению состава играющих. Дворянство сначала просто наблюдало за игрой. Находясь в числе «зрителей», негодовало на происходящее, требовало и стремилось пресечь завораживающее зрелище.
Недостойное, на первый взгляд, поведение графа П. И. Панина, публично и демонстративно таскавшего Пугачева за бороду, становится понятным на игровом языке как символическое, карнавальное разоблачение. В контексте смеховой культуры брань и побои развенчивают царя. Многое говорит в пользу того, что поступок Панина – это не просто способ причинить физическую боль, но акт именно символический. Дело в том, что в традиционном обществе борода также была знаком достоинства, символом свободы и почестей. Отрезать или выдрать бороду всегда считалось тяжким оскорблением.
Вспомним, например, что в начале XVII века расправа Б. Ф. Годунова над боярином Б. Я. Бельским заключалась, помимо прочего, в том, что у него вырвали «клок за клоком всю его длинную, окладистую бороду, тем самым полностью обесчестив его». Но вот что любопытно: поводом к такой расправе послужили подозрения в связях опального вельможи с нечистой силой. По словам современников, «Богдан Бельский знает всякие зелья, добрые и лихие… да и то знает, что кому добро зделать, а чем ково испортить» [111; 173, 167].
Не забудем, что в древнерусской иконописной традиции безбородыми принято было изображать бесов. Таким образом, наказание, которому подвергся Пугачев от рук карателя, вновь адресует нас к противопоставлению Божьего мира и колдовского, сатанинского антимира. О символической мотивации своих действий сам же Панин сообщал брату в письме от 1 октября 1774 года: «Отведал он [Пугачев. – В. М.] от распаленной на его злодеянии моей крови несколько пощочин, а борода, которою он Российское государство жаловал, – довольного дранья» [30; 108].
Оказавшись на краю пропасти, дворяне все чаще пытаются говорить на понятном народу языке смеха. Разоблачая самозваного императора, они интуитивно апеллируют к «карнавальному» образу Пугачева-Петра III. Его интерпретируют как «царя»-само-званца, т. е. представителя колдовского, вывороченного мира. В системе образов смехового, карнавального мира короля всенародно избирают, а затем его же всенародно осмеивают, ругают и бьют, когда время его царствования истекает.
Подобным унижениям и уничижениям подвергался и повстанческий предводитель. Один из участников подавления пугачевщины Г. Р. Державин сообщал, как по приказу Панина пленный Пугачев стоял на коленях, пока с ним высокомерно говорил хозяин дома. «Сие было сделано для того, сколько по обстоятельствам догадаться можно было, что граф весьма превозносился тем, что самозванец у него в руках» [26; 60]. Подобное поведение «душителя» народного бунта можно рассматривать как ритуальное, а значит – публичное, разоблачение символически-высокого статуса пленника, которое, несомненно, приносило ожидаемый эффект. Оно было вполне понятно простонародью и способствовало развенчанию самозванца в его глазах.
Из «милосердия», как утверждалось, Пугачева даже казнили «наоборот». Ему не стали последовательно и поочередно отрубать все четыре конечности, а затем голову, что, собственно, и предполагала казнь четвертованием. Московскому обер-полицмейстеру Н. П. Архарову было секретно подсказано, «чтоб он прежде приказал отсечь голову, а потом уже остальное, сказав после, ежели бы кто ево о сем стал спрашивать, что как в сентенции о том ничево не сказано, примеров же такому наказанию еще не было, следовательно, ежели и есть ошибка, оная извинительна быть может» [29; 146].
В результате во время казни произошло «нечто странное и неожиданное: вместо того, чтоб в силу сентенции, наперед его четвертовать и отрубить ему руки и ноги, палач вдруг отрубил ему голову». Однако смеховая символика казни «наоборот» не была понята свидетелями и современниками из среды знати. А. Т. Болотов отметил в мемуарах: «…и богу уже известно, каким образом это сделалось: не то палач был к тому от злодеев подкуплен, чтоб он не дал ему долго мучиться, не то произошло от действительной ошибки и смятения палача, никогда еще в жизнь своей смертной казни не производившего» [38; 489 – 490].