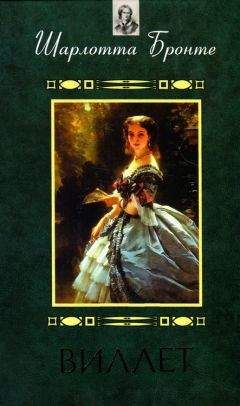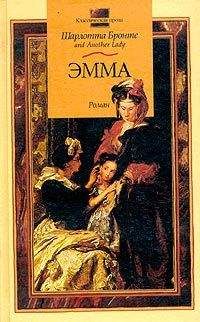— Oui, oui, ma bonne amie, je vous donne la permission de cœur et de gré. Votre travail dans ma maison a toujours été admirable, rempli de zèle et de discrétion: vous avez bien le droit de vous amuser. Sortez donc tant que vous voudrez. Quant à votre choix de connaissances, j’en suis content; c’est sage, digne, laudable.[208]
Она сомкнула уста и вновь устремила взор на газетные строчки.
Читателю не следует слишком возмущаться, узнав, что в это же приблизительно время бережно охраняемый мною пакет с пятью письмами исчез из бюро. Первым моим впечатлением от печального открытия был холодный ужас, но я тотчас ободрилась.
— Терпенье! — шепнула я себе. — Остается лишь молчать и смиренно ждать, письма вернутся на свое место.
Так оно и вышло — письма вернулись; они только погостили немного в спальне у мадам и после тщательной проверки вернулись целыми и невредимыми. Уже на другой день я обнаружила их в бюро.
Интересно, какое мнение составила мадам о моей корреспонденции? Какое вынесла она суждение об эпистолярном даре доктора Джона Бреттона? Как отнеслась она к его мыслям, порою резким, но всегда здравым, к его сужденьям, иной раз странным, но всегда вдохновенно и легко преданным бумаге? Как оценила она его искренность, его шутливость, столь тешившие мое сердце? Что подумала она о нежных словах, блистающих здесь и там, не изобильно, как россыпи бриллиантов по долине Синдбада, но редко — как встречаются драгоценности в краях иных, невымышленных? О мадам Бек, как вам все это понравилось?
Думаю, что мадам Бек не осталась безучастна к достоинствам пяти писем. Однажды, после того как она их позаимствовала у меня на время (говоря о благородной особе, и слова надобно выбирать благородные), я поймала на себе ее взгляд, слегка озадаченный, но скорей благосклонный. То было во время короткого перерыва между уроками, когда ученицы высыпали во двор проветриться. Мы с нею остались в старшем классе наедине; я встретила ее взгляд, а с губ сорвались следующие слова:
— Il у a quelque chose de bien remarquable dans le caractère anglais.[209]
— Как это, мадам?
Она усмехнулась, прежде чем ответить на мой вопрос, заданный по-английски.
— Je ne saurais vous dire «как это»; mais, enfin, les Anglais ont des idées à eux, en amitié, en amour en tout. Mais au moins il n’est pas besoin de les surveiller,[210] — заключила она, встала и затрусила прочь, как маленькая лошадка пони.
— В таком случае, надеюсь, — пробормотала я себе под нос, — вы впредь не тронете моих писем.
Увы! У меня потемнело в глазах, и я перестала видеть класс, сад, яркое зимнее солнце, как только вспомнила, что никогда уже не получу письма, подобного ею читанным. С этим покончено. Благодатная река, у берегов которой я пребывала, чья влага живила меня, та река свернула в новое русло; она оставила мою хижину на сухом песке, далеко в стороне катя бурные воды. Что поделать — справедливая, естественная перемена; тут ничего не скажешь. Но я полюбила свой Рейн, свой Нил, я едва ли не боготворила свой Ганг и горевала из-за того, что этот вольный поток меня минует, исчезнет, как пустой мираж. Я крепилась, но я не герой; на мои руки и на парту упали капли — соленым недолгим дождем.
Но скоро я сказала себе: «Надежда, которую я оплакиваю, погибла и причинила мне много страданий; она умерла лишь тогда, когда пришел ее срок. После столь томительных мук смерть — избавленье, она желанная гостья».
И я постаралась достойно встретить желанную гостью. Долгая боль приучила меня к терпенью. И вот я закрыла глаза усопшей Надежде, закрыла ее лик и спокойно положила ее во гроб.
Письма же следовало убрать подальше; тот, кто понес утрату, всегда ревниво прячет от собственных взоров все то, что может о ней напомнить. Нельзя, чтобы сердце всечасно ранили уколы бесплодных сожалений.
Однажды в свободный вечер (в четверг) я собралась взглянуть на свое сокровище и решить наконец, как с ним обойтись. Каково же было мое огорченье, когда я обнаружила, что письма опять кто-то трогал: пакет остался на месте, но ленточку развязывали и снова завязали; я заметила и по другим приметам, что кто-то совал нос в мое бюро.
Это, пожалуй, было уже слишком. Мадам Бек была воплощением осмотрительности и к тому же наделена здравым умом, как редко кто из смертных. То, что она знакома с содержимым моего ящика, меня не ободряло, но и не угнетало. Мастерица козней и каверз, она, однако, умела видеть все в правильном свете и понять истинную суть вещей. Но мысль о том, что она посмела поделиться с кем-либо сведениями, добытыми с помощью таких средств, что она, быть может, развлекалась с кем-то вместе чтением строк, дорогих моему сердцу, глубоко меня уязвила. А у меня были основания этого опасаться, и я даже догадывалась уже, кто ее наперсник. Родственник ее, мосье Поль Эмануэль, накануне провел с нею вечер. Она имела обыкновение с ним советоваться и делиться соображениями, каких никому более не доверила бы. А нынче утром в классе сей господин подарил меня взглядом, словно заимствованным у Вашти, актрисы; я тогда не поняла, что выражал угрюмый злой блеск его синих глаз, теперь же мне все сделалось ясно. Уж он-то, разумеется, не мог отнестись ко мне со снисхождением и терпимостью; я всегда знала его как человека мрачного и подозрительного. Догадка о том, что письма, всего лишь дружеские письма, побывали у него в руках и, может статься, еще побывают, — надрывала мне душу.
Что мне делать? Как предотвратить такое? Найдется ли в этом доме надежное укромное местечко, где мое сокровище оградит ключ, защитит замок?
Чердак? Но нет, о чердаке мне не хотелось и думать. Да к тому же почти все ящики там сгнили и не запирались. И крысы прогрызли себе ходы в трухлявом дереве, а кое-где обосновались мыши. Мои бесценные письма (все еще бесценные, хотя на конвертах и стояло «Ихавод»)[211] сделаются добычей червей, а еще раньше того строки расплывутся от сырости. Нет, чердак — место неподходящее. Но куда же мне их спрятать?
Раздумывая над этой задачей, я сидела на подоконнике в спальне. Стоял ясный морозный вечер; зимнее солнце уже клонилось к закату и бледно озаряло кусты в «allee defendue». Большое грушевое дерево — «груша монахини» — стояло скелетом дриады — нагое, серое, тощее. Мне пришла в голову неожиданная идея, одна из тех причудливых идей, какие нередко посещают одинокую душу. Я надела капор и салоп и отправилась в город.
Завернув в исторический квартал города, куда меня всегда, если я бывала не в духе, влек унылый призрак седой старины, я бродила по улицам, покуда не вышла к заброшенному скверу и не очутилась перед лавкой старьевщика.
Среди множества старых вещей мне захотелось найти ящичек, который можно было бы запаять, либо кружку или бутылку, какую можно было бы запечатать. Я порылась в ворохах всякого хлама и нашла бутылку.
Потом я свернула письма, обернула их тонкой клеенкой, перевязала бечевкой, засунула в бутылку, а еврея-старьевщика попросила запечатать горлышко. Он исполнял мою просьбу, а сам искоса разглядывал меня из-под выцветших ресниц, верно, заподозрив во мне злой умысел. Я же испытывала — нет, не удовольствие, но унылую отраду. Такие же приблизительно побужденья однажды толкнули меня в исповедальню. Быстрым шагом отправилась я домой и пришла в пансион, когда уже стемнело и подавали обед.
В семь часов взошел месяц. В половине восьмого, когда начались вечерние классы, мадам Бек с матерью и детьми устроилась в столовой, приходящие разошлись по домам, а Розина удалилась из вестибюля и все затихло, я накинула шаль и, взяв запечатанную бутылку, проскользнула через дверь старшего класса в berceau, а оттуда в «allee defendue».
Грушевое дерево Мафусаил стояло в конце аллеи, возвышаясь неясной серой тенью над молодой порослью вокруг. Старое-престарое, оно еще было довольно крепким, и только внизу, у самых корней его было глубокое дупло. Я знала про это дупло, упрятанное под густым плющом, и там-то надумала я упокоить мое сокровище, там-то решила я похоронить мое горе. Горе, которое я оплакала и закутала в саван, надлежало наконец предать погребенью.
И вот я отодвинула плющ и отыскала дупло; бутылка без труда в нем помещалась, и я засунула ее поглубже. В саду стоял сарай, и каменщики, недавно поправлявшие кладку, оставили там кое-какие свои орудия. Я взяла там аспидную доску и немного известки, прикрыла дупло доской, закрепила ее, сверху все засыпала землей, а плющ расправила. А потом еще постояла, прислонясь к дереву, как всякий, понесший утрату, стоит над свежей могилой.
Ночь была тихая, но туманная, и свет месяца пробивался сквозь дымку. То ли в самом ночном воздухе, то ли что-то странное в этом тумане — какая-то наэлектризованность, быть может, — действовало на меня удивительным образом. Так, однажды давно, в Англии, ночь застигла меня в одиноких полях, и, увидев, как на небе взошла Северная Аврора, я очарованно следила за сбором войск под всеми флагами, за дрожью сомкнутых копий и за стремительным бегом гонцов снизу к темному еще замковому камню небесного свода. Я тогда не испытала радости — какое там! — но ощущала прилив свежих сил.