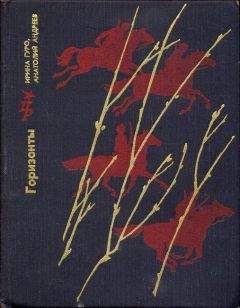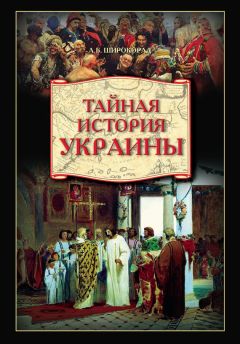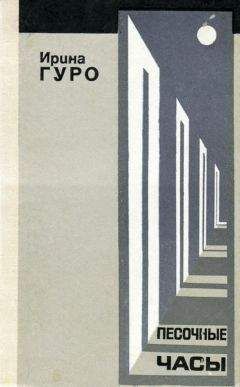— Вот тогда я воочию увидел, какая великая сила женщина и на селе, и на производстве. Я узнал этот характер женщины в красном платочке, активной строительницы социализма. И, знаете, я встретил таких и у вас, в Донбассе. Одна из первых, которые мне попались на глаза, вот и была Елена Кислякова. Теперь Елена Ивановна работает у вас нормировщицей, а тогда она была бригадиром откатчиц. И вот тогда и заметили ее организаторский дар. Верно я скажу: именно Елена Кислякова организовала четкую работу откатки на участке?
И он перешел к фактам последних дней — событиям на шахте «Наклонная-бис». К этой победе молодости, молодых сил шахты, след в след выступивших за Стахановым.
И снова, прислушиваясь к реакции зала, он подымался от конкретных фактов к обобщенному опыту передовиков.
Как всегда, его мысль обращалась к Никите Изотову, в котором посчастливилось ему угадать человека, вышедшего на передний край угольной добычи.
То были истоки массового движения передачи опыта молодежи. Характер Изотова — это характер человека коммунистического общества: именно такому человеку свойственно стремление поделиться опытом, удачей, планами.
Станислав Викентьевич много думал об этом. Он видел в таких людях, как Изотов, антиподов «героев» общества наживы, «рыцарей» капиталистической конкуренции. Дух благородного соревнования реял над шахтами Донбасса, и такие люди, как Изотов, были источниками этого светлого и непобедимого духа.
Так образ Изотова неизменно сопутствовал Косиору, когда шла речь о рабочей гордости, о творческом таланте рабочего.
…Аккумулируя опыт множества людей, он восходил к широким обобщениям. Ему доставляло огромную радость прослеживать, как действительность подтверждает теоретические положения, принятые им с молодых лет, с тех пор, когда он впервые познакомился с трудами Маркса, Энгельса, Ленина. Именно стахановское движение показывало научно предвиденный Марксом и Лениным взлет производительности труда в обществе, где ликвидирована капиталистическая собственность на средства производства. И он ощущал приближение новой, еще более совершенной формы человеческого общества, как ощущают приближение утра по светлеющему небу, по меркнущим теням и предрассветной свежести воздуха.
В цепи конкретных случаев улавливал он общий закон развития нового общества и радовался тому, что этот закон возвестила теория, которой он был вооружен. Та философия марксизма, о которой Ленин сказал, что она «вылита из одного куска стали».
В Москве шел снег, падал густой пеленой на булыжник вокзальной площади. Вокруг недавно установленных дуговых фонарей снежинки плясали мотыльковым роем.
Из номера небольшой гостиницы на Сретенке, где останавливались сотрудники их наркомата, Моргун позвонил в Дом советов. Как он и ожидал, трубку поднял Евгений Малых.
— Ты в Москве? — удивился тот.
— Я по вызову. Срочному. А только что позвонил в наркомат, там одни дежурные.
— Естественно, все на съезде. Я сейчас еду туда со Станиславом Викентьевичем. Учти: он сегодня выступает. Так что приезжай, я оставлю тебе билет на первом посту.
— Спасибо, приеду.
Василь тут же собрался, но в это время ему позвонили из наркомата и передали, чтобы он явился с докладом к заместителю наркома к двадцати трем ноль-ноль.
«Значит, заседание съезда закончится поздно, — подумал Василь. — Понятно: принятие Конституции СССР после длительного всенародного обсуждения»…
Моргун вошел в зал заседания VIII съезда Советов, когда прения по докладу уже начались.
Он сразу увидел Станислава Викентьевича в президиуме и по его позе и выражению лица догадался, что сейчас он будет выступать.
Как только Косиору было предоставлено слово, из рядов донеслись громкие возгласы. Они раздавались в разных концах зала. И оттого, что это были все сильные мужские голоса, они органично входили в торжественную обстановку съезда Советов, принимавшего Основной закон Советского государства.
«Да здравствует Коммунистическая партия Украины!», «Да здравствует руководитель украинских большевиков товарищ Косиор!» Последнее «ура» было подхвачено и раскатилось мощно и сильно, как на параде.
Косиор уже стоял на трибуне, а в зале еще звучали аплодисменты, которые медленно стали затухать, когда он поднял руку, требуя внимания.
И с этой минуты Василь, немного успокоившись, потому что был взволнован тем, как принял Косиора съезд, пристально его разглядывал, как бы заново узнавая.
При своем малом росте Косиор не производил впечатления низкорослого, так нельзя было о нем сказать. О таких говорят обычно — крепыш. С этим словом связывались детские и отроческие воспоминания Василя о «дяде Сташеке».
Сдержанный жест оратора подчеркивал сказанное, взмах короткой сильной руки был необычен, не рубил сверху вниз воздух, а энергично проводил горизонтальную черту, как бы подводя итог.
Но вообще энергия оратора выражалась не жестикуляцией, даже не голосом, хотя он не был монотонным, но главным образом мгновенными и выразительными изменениями лица. Беглой улыбкой, насупленными бровями, быстрым взглядом, обегающим зал.
Василю показалось, что Станислав Викентьевич выглядит иначе, чем при последней их встрече в Донбассе. Когда это было? Всего год назад, а представлялось: очень давно.
Тогда в Кадиевке Косиора провожали более шумно, менее официально, чем когда-либо. Скромный вокзал ясно показывал свое несоответствие нуждам момента. И на этот счет уже сыпались пожелания и обещания: да, необходимо современное здание, рассчитанное на великие множества, двинувшиеся в Донбасс. «Все будет, все придет» — такое настроение владело всеми. И было что-то будоражащее и необычное во всем, казалось бы, привычном: в сереньком дне осени, в сухом ветре, несущем с террикона черную пыль, в репликах из толпы, сгрудившейся у вагонов.
На какой-то момент Василь оказался в непосредственной близости от Косиора, и тот спросил:
— Василий Иванович, а тут кого-то еще кроме меня пышно провожают. Это кто же?
Поодаль от правительственного вагона, в хвосте поезда, кипело оживление, мелькали молодые лица, в нестройный хор голосов врывалась временами гармоника.
Станислав Викентьевич прошел с Василем немного по платформе и тот объяснил:
— Это стахановцы с шахты «Наклонная-бис». Приезжали сюда набраться опыта. Сейчас вон тот парень с чубом, чернявый, Николай Панченко, забойщик, едет учиться, ну а они его провожают. Вот эта дивчина, видная такая, — Люба Панченко, а высокая, русая — та монашка, любовь Письменного, помните?
Косиор посмотрел и проговорил задумчиво:
— Какая доля выпала ей! И ведь не случайно, а закономерно все сложилось. Но так непросто, так драматично…
Они вернулись к правительственному вагону, и Василь только и успел пожать руку Станислава Викентьевича и встретить его взгляд. В этом взгляде что-то осталось от мимолетного разговора: словно бы удивление и вместе с тем понимание.
Сейчас, в ноябре 1936 года, Василь видел Косиора таким, каким знал его на вершинах, на волне успеха. А успех для такого человека означал реализацию грандиозных планов партии.
«Да ему просто свойственно вести людей!» — подумал Василь. Так молодо, энергично, воодушевленно начал свою речь Косиор.
Но при всей своей воодушевленности он был спокоен. Его оживление не имело в себе ничего нервического. «Упорист он очень», — вспомнил Василь выражение отца. «Упорист» — это словечко Ивана Моргуна определяло несколько качеств одновременно: безусловно — упорство, прочность, но и последовательность. «Крепко стоит на ногах» — это тоже произносилось и имело значение двоякое: буквальное и символическое. Именно так и стоял сейчас на трибуне Косиор.
Он стоял как бы на вершине пирамиды: чем шире было ее основание, тем дерзновеннее высился ее пик. Только грандиозный опыт, пережитый, выстраданный, железной логикой отобранный мог привести на вершину итогов.
Первый из них был оценкой пройденного пути. Завершение пятилетки индустриализации представлялось как совокупность усилий множества людей, и в первую очередь той общности, которая именуется партией.
Решающей была и победа колхозного строя в деревне. Взятие этой высоты означало не только социально-экономическую революцию на селе, но и глубокий нравственный сдвиг, рождение нового колхозного крестьянства с его сознанием нового человека. И он вел коммунистов в бой на последние твердыни капитализма в деревне.
Оратор напомнил, что Конституция Советского государства не программа будущего: в ней записано то, чего мы уже достигли. Что уже наше, и никто не в состоянии это достигнутое отнять у народа.
Далее речь его как бы восходила со ступени на ступень, обретая все больший накал, потому что сейчас он говорил об опасности фашизма, сметающего все остатки демократии, физически уничтожающего десятки тысяч лучших людей.