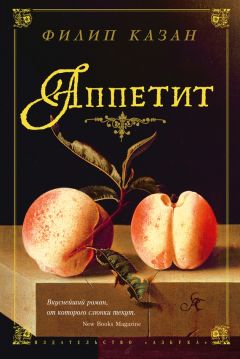Людей куда больше интересовала напряженность, растущая между мессером Лоренцо и семейством Пацци. Что-то творилось вокруг архиепископа Пизы, насколько я понял: Папа назначил таковым Франческо Сальвиати, близкого друга Пацци, а мессер Лоренцо пришел в ярость. Мессер Лоренцо и его святейшество не виделись наедине уже некоторое время, а после истории с Имолой Медичи вытесняли Пацци из флорентийской жизни где только могли.
Дальше – хуже. Лоренцо отказал впустить архиепископа Сальвиати в Пизу, но Папа пригрозил отлучить его. Теперь Сальвиати сидел в Пизе, а Папа отозвал у Медичи монополию на квасцы – целое состояние – и передал ее Пацци. Я представлял, каковы должны быть настроения во Флоренции: люди разбиваются на партии, дерутся на пьяццах, покрывают стены ядовитыми картинками и надписями… Совершенно очевидно, сейчас не лучшее время для вражды с Бартоло Барони.
Тогда, может быть, на юг, в Неаполь? Король Ферранте был известен любовью к еде, а это означало, что при его дворе всегда будет нужда в хороших поварах. Или в Милан? Во Францию, как я когда-то собирался? Но ведь все повторится. Я никогда не буду удовлетворен, пока не стану кем-то вроде Зохана. Но даже Зохан иногда восставал против людей, которые ему платили. Мне придется стать самим Господом Богом, прежде чем я удовлетворюсь.
Что ж, я всегда могу рисовать. Я умею это делать: не слишком хорошо, но можно подучиться. Филиппо бы одобрил, разве не так? Я бы мог пялиться на прелестных женщин днями напролет и развлекаться с ними ночью.
Прибыли мои вещи. Люди, которые принесли их, болтали о кардинальском пире.
– О чем это вы? – невинно спросил я одного, отдавая плату.
– Кардинал Гонзага задал пир для своего племянника, или кузена, или еще кого-то там, – рассказал носильщик. – Так вот, я довольно часто видел его высокопреосвященство – издали, конечно, – и он кажется мягким и кротким человеком. Но вчера вечером он задал этому племяннику и его невесте – плоская, как дорожная плита, откуда ни взгляни, – любовный пир, каким сам Нерон бы гордился. – Он перекрестился, упомянув Нерона, как делали многие римляне, боясь, что злобный призрак императора все еще бродит по городу. – Член с яйцами, как настоящие, на столе, так я слышал, и с конца дым и пар идет. И всякие разные штуки, чтобы мужчину и женщину зажечь. Рико говорит, племянник заставил его высокопреосвященство устроить венчание прямо там, чтобы он мог разложить невесту на столе!
– Это мне так Джилио сказал, – буркнул Рико. – Не знаю, правда или нет. Но про член все правда, мессер, клянусь.
Тут появился сам Транквилло, и я отослал носильщиков как можно быстрее.
– Это же неправда? – спросил я.
Мы сидели с кружками дешевого вина, и оба принимали его как лекарство. Транквилло положил промокшие ноги на печь:
– Нет-нет, ничего такого. Никакого раскладывания на столе.
– Слава Богу!
– Только почти, замечу. Когда я вошел с сахарными скульптурами, там была будто клетка с бешеными горностаями. У всех были вот такие большие коровьи глаза… – он выпучил свои и высунул кончик языка из уголка рта, как повешенный, – все выглядели так, будто сейчас друг друга начнут лизать, а не сахар. И все красные и в поту. Вот это был видок, право слово. Нельзя сказать, что они не получали удовольствия. Клянусь, его высокопреосвященство выглядел как жеребец на лугу, полном племенных кобыл. Никогда не видел ничего подобного.
– А сегодня утром?
– У кого-то наверняка похмелье. Проклятый де Луго заперся с его высокопреосвященством, сидят уже час или больше. Горничная сказала, там нехорошо.
– Не мне его жалеть, но в каком-то смысле все равно жалко.
– Какого хрена! Этот ублюдок никогда в жизни не устроил приличного пира. Ему надо быть монахом-проповедником, а не стольником. Он позор для Гонзаги. А с другой стороны, я никогда не видел такой еды, как ты подал вчера вечером. Я любил старого маэстро, но ты, мальчик…
– Это задумывалось как шутка, – промямлил я. – Совсем простая еда, правда.
– Простая? Я попробовал остатков – уцелело всего ничего, – и, Господь Всемогущий, они были прекрасны.
– А что ты пробовал? – невольно спросил я.
– Пару воробьев – обычно и не притронулся бы к ним, конечно. – Транквилло воздел руку со сжатым кулаком и картинно потряс ею. – Великолепно! Что ты в них положил?
– Не помню. Длинный перец, «райские зерна»… Ну, то, что покажет птицу, если ты понимаешь, о чем я. Это нежное мясо, но у него есть свой вкус, и я хотел его почтить.
– Почтить вкус? Ты говоришь как язычник, мальчик мой.
– Но зачем еще быть поваром? Зачем есть что-то, кроме хлеба, если не для того, чтобы ощущать вкус? Иначе в чем смысл, Транквилло?
– Я думал, смысл в том, чтобы платили.
– Так все думают, кроме меня, очевидно. В любом случае я не собираюсь больше никого беспокоить в Риме. Я еду в Неаполь.
– Чертовски хорошая идея! Можешь открыть бордель. «Мантуанский петух».
– Ха! Нет, нет. Я завязал с готовкой. Собираюсь рисовать.
– О Мария с Иисусом! Выпей-ка еще, парень. Так ты что, теперь художник, а?
Но я не успел объясниться: в этот момент в гостиницу вошли двое вооруженных людей. На них красовались изысканные белые с синим ливреи, увы, промокшие насквозь. Еще один человек шел позади – худощавый, в одежде одновременно неприметной и изысканно дорогой. Он встряхнулся, словно кошка, оглядел зал, который все равно был почти пуст, и что-то шепнул солдатам. Я ничуть не удивился, когда он направился прямиком к нашему столу.
– Не является ли один из вас, господа, маэстро Нино? – спросил он.
Его голос был спокоен, мягок, ровен, но этот человек явно привык к полному повиновению.
– Вот он! – выпалил Транквилло, не успел я и рта раскрыть.
– Это так? – спросил человек.
Он произнес это тоном терпеливого священника, но все же при нем были двое солдат.
– Это так, – ответил я, вставая. – Что у вас за дело ко мне?
Я оглядел вооруженных людей, ожидая, что они бросятся и схватят меня, но их больше интересовал винный бочонок, который выкатил хозяин гостиницы.
– Я Доменико Паголини. Вы слышали обо мне?
Я честно ответил, что не слышал. Его это, похоже, не обескуражило.
– Так вы главный повар? Повар и, вероятно, алхимик?
– Я уже сказал: да, это я. Если вы пришли меня арестовать, позвольте, я сначала оплачу здешний счет.
– Арестовать вас? – нахмурился Паголини. – Я произвел такое впечатление? В этом случае я должен извиниться. Я пришел пригласить вас на обед.
– Это очень любезно с вашей стороны, мессер Доменико. Но если вы не поведете меня в замок Сант-Анджело, мне надо уезжать. В обычных обстоятельствах я почел бы за честь отобедать с вами, но обстоятельства…
– О нет! Понимаете, приглашение исходит от человека, который присутствовал вчера на пиру у кардинала Гонзаги.
– Я лучше пойду, – внезапно сообщил Транквилло.
Он встал, быстро расцеловал меня в обе щеки и ушел, бросив последний встревоженный взгляд на солдат, один из которых сейчас постукивал древком пики об пол.
– Прекрати! – велел Паголини.
Солдат вытянулся, явно смутившись.
– Я прошу прощения – безусловно, – если ваш друг, коллега, знакомый, кто бы он ни был, не получил удовольствия от еды, – сказал я. – Пожалуйста, знайте, что я отбирал все ингредиенты лично. Все было свежайшее и здоровое – и вполне обыкновенное.
– Совершенно наоборот. Человек, о котором я говорю, получил большое удовольствие от еды. Просто-таки огромное. Вы пойдете? Он будет разочарован, если вы не придете, и, смею заверить, вы тоже.
Это звучало как угроза, но Паголини никоим образом не угрожал. С другой стороны, его солдаты… Я еще раз перебрал все возможности.
– Если предполагается, что я уеду в Неаполь сразу после этого обеда, – резко ответил я.
– Превосходно. Пойдемте сейчас? Здесь недалеко.
– Очень хорошо. Но вы не сказали, с кем я обедаю.
– Вы правы. Какое упущение с моей стороны! Это человек, которому я служу. Кардинал Родриго де Борджиа. И он очень ждет встречи с вами.
41Странно вспоминать живого человека, который стал таким знаменитым трупом. Я знаю – все знают – финал, который Фортуна написала для Родриго Борджиа, или Папы Александра VI, в которого он превратился. Мальчишки вызывали у своих сестер корчи и рвоту рассказами о гнусных подробностях, которыми обросла история: пена изо рта, почерневший язык, тлетворные миазмы из задницы мертвеца, нищенский гроб, не способный вместить чудовищную раздувшуюся тушу. Безжалостный конец, слишком мерзкий для жалости, слишком скверный даже для человеческого сострадания. Ведь разве может человек сделаться таким трупом, если только он не накопил разложение внутри себя, словно сочащиеся черным медом соты?