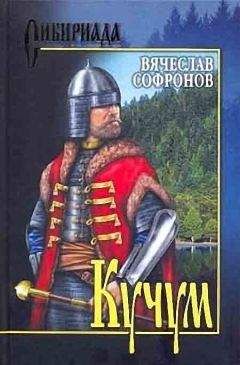Анна, когда у нее забрали сына, билась в дверь, рвала на себе волосы, выла, грозила монахиням страшными карами, требовала отпустить ее в Москву, но игуменья была непреклонна, и постепенно неутешная мать затихла и сидела, забившись в угол, неумытая и нечесаная.
Евдокия, которой было поручено кормить и купать мальчика, привязалась к нему, как к собственному сыну, и лишь когда проходила мимо кельи, в дверь которой билась несчастная Анна, то краска стыда от сопричастности к чужому горю заливала ее лицо. Она догадывалась, что не царского сына нянчит она, легко узнавала в нем черты любимого ей человека. Но мать младенца была царской женой, и никуда от того не денешься, даже если и не был их брак освящен таинством церкви. В той же мере она считала себя матерью ребенка и не желала расставаться с ним. Как же она была напугана, когда заметила набухание грудей, а вскоре от легкого надавливания пальцами на сосках выступило молочко, и она, перемежая слезы радости горестным всхлипыванием, со страхом поднесла грудь к ротику младенца. И он ухватил сосок, блаженно зачмокал, закатывая глазки, потянул в себя молочко женщины, отныне ставшей его второй матерью.
Возможно, игуменья заметила неожиданные перемены, произошедшие с Евдокией. Да и разве трудно было догадаться одной женщине, как расцвела и преобразилась тихая и скромная затворница от прикосновения к слабому и нежному ростку новой жизни. Но старая мудрая игуменья ничем не выдала своего знания и лишь чаще и дольше стала оставаться одна в монастырском храме коленопреклонной перед иконой Божьей Матери.
Когда пришел срок везти Димитрия в Москву, она призвала Евдокию к себе и, не поднимая изможденного постами и бдениями морщинистого лица, протянула небольшой, но увесистый кошель, строго проговорив низким старческим голосом:
— Возьми на расходы дорожные. Береги дитятко. Поди, знаешь, чей он сын?
Евдокия приняла кошель, не говоря ни слова, опустилась на колени под благословение:
— Прости, матушка, — всхлипнула она.
— Бог простит, милая. Молиться за тебя стану. Ничего не говори мне и так все пойму, ни в чем тебя винить не стану. Вижу, что привязалась к младенцу и ожила. Может, и к лучшему, коль бабья доля тебя поманила, позвала. Господь заповедовал нам продолжать род людской и тебе решать, по какому пути пойти, куда голову преклонить. Пока жива, окажу помощь посильную, если потребуется. Блюди себя и не нарушай заповедей церкви нашей. — Она торопливо сняла с шеи образок Богородицы и одела на склоненную голову Евдокии, перекрестила, помогла подняться и легонько подтолкнула в спину. — Иди и помни, что отныне не властна ты над собой и многие судьбы в руках твоих.
При въезде в Москву возок, в котором ехала Евдокия с младенцем, остановился возле шумного базара, и возница, кряхтя, спустился на землю, не оглядываясь, пошел к квасному ряду, верно, желая промочить горло. Евдокия поняла, что более благоприятного момента не будет, подхватив спящего мальчика, выбралась из возка и, быстро ступая, нырнула в бурлящий круговорот горластых торговцев и покупателей, где вскоре затерялась, вышла на соседнюю улицу и опрометью бросилась вдоль стоящих ровно, как по линейке, окраинных домов, свернула в первый же попавшийся ей переулок, налетела на собачью свадьбу, ее облаяли добродушные вислоухие псы, но она, ничего не замечая и не слыша, бежала все дальше и дальше. Наконец, остановилась перевести дух и стала соображать, куда же ей идти.
На постоялом дворе останавливаться опасно. Если возница доберется до Донского монастыря, сообщит о пропаже дитя и монахини, то об этом вскоре станет известно царю, а тот распорядится искать ее и наверняка первым делом кинутся по постоялым дворам. Оставались князья Барятинские, которые некогда весьма радушно принимали ее. Но теперь, когда прошло столько лет, узнают ли они, пустят ли в дом. Но, однако, иного выхода у нее просто не было и она, прошептав молитву, медленно побрела к центру Москвы, время от времени спрашивая у прохожих как найти усадьбу князей Барятинских.
Старый слуга, вышедший к ней навстречу, с подозрением оглядел миловидную монахиню, покосился на запеленутого ребенка и ушел в дом. Его долго не было, наконец, он вернулся и кивком головы пропустил вперед себя, повел в комнаты.
Старый князь, Петр Иванович Барятинский, узнав о появлении незнакомой монахини, не на шутку встревожился. По Москве давно уже ползли слухи, будто бы бывшая царская жена Анна Васильчикова, будучи в монастырском заточении, родила сына. Одни считали, что-то прямой царский наследник, и царь повелел вернуть Анну обратно и встретить ее как законную царицу с подобающими почестями. Но не проходило и дня как кто-нибудь из соседей сообщал вдруг, что у Анны родился мальчик в звериной шкуре с рогами и копытами от антихристового семени — и теперь надо вскорости ожидать конца света. Мол, всю Москву окружили крепкими заставами, жгут смолье, курят ладан и доглядывают за приезжими гостями. Да разве от нечистой силы убережешься этаким обычаем?
А тут до княжеских и боярских дворов докатилось страшное известие о смерти царевича Ивана, которого будто бы и лишил жизни тот самый младенец, семя антихристово. И способствовали тому немцы и иные басурмане, проживающие в стольном городе. Народ всколыхнулся и начал жечь дома иноземцев, кинулся с дубьем в Немецкую слободу, да были остановлены прицельным огнем из ружей живущих дружно немцев и иных приезжих гостей.
Что ни день, как рождался новый слух, и моментально наполнившие городские улочки юродивые и кликуши громогласно блажили, перемывая косточки и боярам, и немцам, и знатным людям. Жалели лишь царя, который будто бы собрался на вечное заточение в монастырь, что специально для него будут строить в глухих урочных местах.
На счастье, никто не знал, в каком из монастырей произошло рождение загадочного младенца, иначе давно бы уже кинулись требовать выдачи его и предания огню. Сам 5де Иван Васильевич после погребения сына в Архангельском соборе надолго закрылся в своих покоях и никого не допускал к себе. Борис Годунов с Богданом Бельским, которым доложили об исчезновении привезенного в Москву сына Анны Васильчиковой, долго совещались, не зная, что предпринять. Любой их поступок мог быть обращен против них. Потом улучили момент и решительно вошли в комнату к Ивану Васильевичу, застав его стоявшим на коленях перед образами, и сбивчиво доложили о случившемся. Но Иван Васильевич не проявил никакого интереса к их сообщению и лишь спросил, когда ожидается прибытие из Рима папского легата, который должен был выступить посредником между ним и Стефаном Баторием. Точной даты бояре указать не могли. Царь махнул рукой, выпроваживая их. Никаких указаний насчет розыска пропавшего младенца дано не было. Бояре вздохнули — еще одной заботой меньше, и каждый занялся своим делом. Об исчезнувшем ребенке на время забыли…
…Князь Барятинский из-за занавески сперва пристально разглядел непонятно откуда взявшуюся в его доме монахиню, не без труда признал в ней свою бывшую стряпуху, проживавшую когда-то у него вместе с матерью, и чуть успокоился. Вышел к ней с улыбкой и с обычным добродушием.
— Не думал, не гадал, что почтенную инокиню Господь ко мне в дом пошлет. Что привело тебя?
— Князь, видать, не признал меня? — потупя глаза, тихо спросила Евдокия.
— Отчего ж не признать… Признал как есть. Дуся? Вот видишь, не совсем еще из ума старый князь выжил. Одна? Мать-то где?
— Она к себе на родину в Устюг уже несколько годков как ушла. И вестей от нее до сих пор никаких не имею.
— То бывает. Даст еще знать о себе. Ты никак постриг приняла? — Князь намеренно не спрашивал о младенце, которого Дуся крепко прижимала к себе и покачивала время от времени.
— Нет, не приняла постриг. Послушница пока.
Оба замолчали, не решаясь заговорить о главном. Наконец, первым не выдержал князь и, насупясь, пожевав губы, спросил:
— Ребеночек твой? Или подобрала где? Евдокия подняла на него свои чистые, незамутненные глаза и без утайки выдохнула:
— Царской бывшей жены сынок. Анны. Кто отец, сказать не смею, но, может статься, и не государь наш вовсе.
— Как?! — всплеснул руками Барятинский и, откинув пеленку, уставился в детское личико. Мальчик проснулся и сонно поглядел на бородатого мужика, склонившегося над ним, испугался, заплакал.
— Вышел бы, князюшка… Покормить мальца надо…
— Неловко повела плечом Евдокия, скидывая с себя верхнюю одежду, оставшись в черном, наглухо закрытом платье.
— А кормить кто станет? — Барятинский растерянно оглянулся, словно где-то здесь должна находиться и кормилица.
— Да я и покормлю, — просто ответила Евдокия, качая и сноровисто распеленывая младенца.
Ничего не понимающий Барятинский попятился к дверям, столкнулся там с женой, которая, верно, слышала весь их разговор, и она с улыбкой потянула его за собой, но он успел спросить: