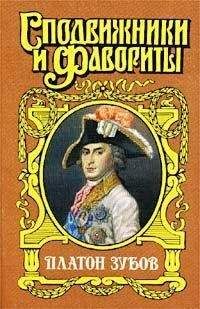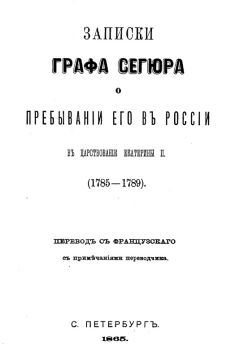— Вот видите — в Березове! Сколько в тех краях народу сгинуло. Поди, году не прошло, как Меншикова там же схоронили, за ним дочь его, за императора Петра Алексеевича Второго просватанную. А тут и вторую невесту-горемыку привезли, государыню-невесту Екатерину Алексеевну Долгорукову. Нрава государыня была крутого. С братцем никогда не ладила. Во всем его одного винила. А уж невестку-дуру, как сама выражалась, прямо возненавидела.
— Любовь, Василий Васильевич, все претерпит — вам ли этого не знать!
— Любовь-то да. Когда со смыслом. С пониманием. Наталье Борисовне одни детки достались. Сама своих младенцев выходила, подняла, а тут как раз и мужа лишилась. Императрица Анна Иоанновна велела по делу Долгоруковых вторичное следствие учинить, в заговоре мнимом обвинить да и порешить всех разом. Тут уж родитель Александра Васильевича Суворова постарался. Спуску никому не дал.
— А смелость, смелость-то в княгине какая! Вернулась с сыновьями из Сибири — судьбой их сама занялась. Ничьей помощи не ждала и не просила. По ее словам, все руки родственные с негодованием отвела: не помогли в несчастье, не нужны после. Вот и во внуке ее сила эта оказалась, и доброта, и любовь великая. Да знаете ли вы, какую он сам на себя эпиграмму написал? Сам же мне и подарил. Многим ли такое дастся:
Натура маску мне прескверну отпустила,
А нижню челюсть так запасну припустила.
Что можно из нее, по нужде, так сказать,
В убыток не входя, другому две стачать.
Глаз пара пребольших, да под носом не вижу.
То есть я близорук: лорнета ненавижу!
— При Малом дворе он в любительских спектаклях участвовал и с отменным успехом. Там и супругу свою будущую встретил. Фрейлину.
— Наверно, живостью своею не угодил великому князю.
— Вовсе нет. Так по сердцу наследнику пришелся, что императрица его немедля в Пензу служить назначила. Не по душе государыне было, чтобы вокруг цесаревича преданные люди находились. А уж коли о Долгорукове заговорили, в голову мне пришло: скольких же вы, Дмитрий Григорьевич, литераторов наших изобразили! Не есть ли это некая магическая связь вашего таланта живописного с талантами российскими литературными? Полюбопытствовать хотел: никак вы и с доверенным секретарем нашей государыни, Александром Васильевичем Храповицким, дружбу водите? Портрет его, поди, уж лет десять как вами написан. Способности что в службе, что в литературе у господина Храповицкого немалые.
— С Украины знакомы. Александр Васильевич там еще у графа Кирилы Григорьевича Разумовского службу начинал. Очень графу по сердцу пришелся легкостью сочинявшихся им бумаг. Григорий Николаевич Теплов к заслугам его и то относил, что писать умел четко и красиво — без перебеливания. Никогда его рукописи перебеливать не приходилось.
— Канцелярист!
— Александр Васильевич на том и в Сенат попал — равных ему не найти было. Только в департаментах много не высидишь в смысле чинов и жалованья, как сам он говаривает.
— А к государыне в личные секретари как же попал? Кто порекомендовал или поручился?
— А чего же тут гадать. Граф Александр Андреевич Безбородко да граф Петр Васильевич Завадовский. Оба постарались.
— Ласковый теленок двух маток сосет.
— Я бы по-иному сказал. Александр Васильевич всем полезен умел быть. Переводы, говорили, превосходные делал. Песни в русском стиле сочинять принялся и опять же с успехом. И притом убеждениям своим не изменял. У государыни в доверенных лицах оказался, и то утверждал, что самодержавие ограничить следует. Без того условия державе в цветущее состояние никогда не прийти.
— Выходит, не случайно Александр Васильевич первые уроки языка российского Александру Николаевичу Радищеву давал.
— Какая же случайность. А Михаила Васильевич, ихний братец, и вовсе открыто об отмене крепостного права рассуждает. По его суждению, не имеет права один человек быть господином живота и смерти другого человека, одинаково с ним Господом нашим созданного. Оброки в своих деревнях снизил. Школу открыл.
Слыхал, государыня по этому поводу известное недовольство высказывала, что сия поспешность только к брожению умов привести может и не следует одному помещику нарушать порядок, среди всех остальных помещиков установленный. И снова о мартинизме в дурном смысле поминала, так что Александру Васильевичу нелегко пришлось.
— Не за то ли и наш Гаврила Романович поплатился? Всего-то три года секретарем при государыне пробыл и — отставка.
— Если и отставка, то хоть почетная. Сенатором стал. Орден дали. Чин тайного советника.
— Лишь бы с глаз долой. Не того от пиита ждали. Находил же слова для Потемкина, и какие! Вот Зубов и решил, со своей стороны, Гавриле Романовичу посодействовать, да обманулся.
Все современники отмечали любовь императора Павла I к церемониалу, превращавшую придворную жизнь в род маневров. Особенно велико было его пристрастие к церемонии целования руки по каждому поводу и случаю, каждый праздник и воскресенье; причем сама церемония была во всех мелочах разработана специалистом по этим вопросам Валуевым: надо было, после глубокого поклона, опуститься на одно колено и в этом положении запечатлеть долгий поцелуй на руке императора [это особенно рекомендовалось], затем повторить ту же церемонию в отношении императрицы и уже потом отступить назад, не поворачиваясь спиной, что заставляло наступать на ноги тем, кто шел на твое место, вызывая неизбежную неловкость, несмотря на все усилия церемониймейстера.
Князь Адам Чарторыйский.Петербург. Дом А. А. Безбородко. А. А. Безбородко и Д. Г. Левицкий.
— У меня к вам просьба, Дмитрий Григорьевич, потому и просил ко мне заехать. Забыли вы старого знакомца, совсем забыли.
— Не корите меня, граф Александр Андреевич, до художника ли вам теперь. В вашей канцелярской должности! Боялся побеспокоить, а коли понадоблюсь, так адрес мой вам известен.
— Полноте, полноте, Дмитрий Григорьевич, я старые времена забывать не склонен. Дел немало прибавилось, а влечения к кружку нашему не убавилось, а к живописи тем паче. Вот и тут хочу вас просить портрет зятя моего графа Григория Григорьевича Кушелева написать.
— Сердечно признателен за честь.
— Вы, поди, с Григорием Григорьевичем не один раз у меня встречались? Человек достойнейший.
— Помню, граф Кушелев при великом князе еще Павле Петровиче состоял.
— В чине полковника. А нынче государь император его заслуги не забыл. Как вам, поди, известно, из генерал-майоров в вице-адмиралы переименован, тут же и в адмиралы. Нынче вице-президентом Адмиралтейств-коллегии состоит. И по случаю возведения в графское достоинство хотелось бы галерею мою живописную портретом вашей кисти обогатить.
— А размер какой пожелаете?
— Скажем, в малую натуру, поясной. И непременно с аксессуарами. Как положено.
— Отлично. Так и сделаем.
— Что-то вид у вас невеселый, Дмитрий Григорьевич. Неприятности какие дома?
— Благодаренье Богу, на дом пожаловаться не могу.
— Супруга, дочка здоровы ли?
— Благодарствуйте, Александр Андреевич. Непременно утешу их, что помните.
— А коли не семья, то что же, Дмитрий Григорьевич? Может, чем помочь смогу.
— По правде сказать, за друзей тяжело.
— О ком это вы?
— Николаю Ивановичу Новикову тяжко приходится. Я бы и рад помочь, да не всегда получается. Приупадло его Авдотьино, крепко приупадло.
— Новиков хозяин отменный. Год-другой, глядишь, и опять поместье свое в порядок приведет. Тут и грустить нечего.
— Радищева Александра Николаевича очень жалко.
— Нешто дружны вы с ним были? Не знал.
— Не то что дружны, а человек был достойнейший. Неизвестно за что поплатился.
— А вот тут вы и неправы. Было за что. Государь прямо так и сказал: было. Он по доброму сердцу всех узников отпустил, хотя Радищева и строго в свободе его ограничил.
— О том и говорю. Сельцо ему для проживания самое что ни на есть беднейшее в Калужской губернии предоставлено. Выехать никуда нельзя. Губернатор во всем за ним доглядывает, переписку вскрывает — даже не таится. Родителей больных престарелых навестить, и то без дозволения нельзя. Это после всех мучений-то его!
— Вот тут я с вами, Дмитрий Григорьевич, никак не соглашусь. Родители у господина Радищева в Саратовской губернии живут — не ближний край. Со сколькими людьми он по пути повидаться да переговорить мог?
— Что ж тут за грех? Почему и не поговорить?
— Почему, спрашиваете? А государь ничего господину Радищеву не простил. Как, сами понимаете, простить, что книжку свою сразу после французской революции написал? Государь все обвинения покойной императрицы против господина Радищева повторил, что господин Радищев преступил должность подданного и книга его наполнена самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умоляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу сана и власти царской.