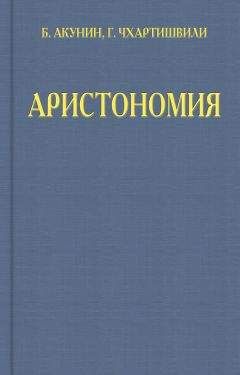Ознакомительная версия.
Антону показали, где колодец, где отхожее место (деликатно обозвав его «латрына»), дали постельное белье. Были предупредительны, даже услужливы. Смущали только глаза хозяина. Кроме страха в них читалось еще что-то. Неужели ненависть? Но почему?
Антону хотелось остаться одному, он вдруг почувствовал себя неимоверно уставшим, но Пасюки всё стояли у порога, не уходили, будто ждали еще чего-то.
А, видимо, вот в чем дело.
– Плата по казенному тарифу это сколько? Наверное, немного? Я могу доплачивать.
Павло Семенович, сдвинув косматые брови, сказал:
– Ничого не треба. Всем очень довольны.
И опять стоят. Как сделать, чтоб они перестали бояться?
– Вы не думайте, я не из контрразведки.
– Ага, – кивнула тетка.
– То не наше дило, – сказал хозяин.
Не тронулись с места.
Наконец Антон понял: они ждут разрешения удалиться.
– Ну, спокойной вам ночи.
Немедленно, чуть не столкнувшись в проеме плечами, чета Пасюков исчезла.
Он развесил одежду, сложил на столе книги. Фотоаппарат пристроить было некуда. Пришлось оставить в чемодане вместе с набором разнокалиберных шприцов, новогодним подарком профессора Шницлера.
Стук в дверь.
Снова хозяин.
– Вот. – На заскорузлой ладони лежал ключ. – На ночь снутри запирайтеся. Когда уходите тож. Жиганов полно. Если не дай боже шось пропадет, с нас не спрашивайте. Во другого ключа нету, только ваш… Керосину много не жгите. Который в лампе догорит – другого нема.
– Хорошо. Я завтра куплю что-нибудь для освещения, а лампу вам верну.
Всё, теперь уж точно один. Антон сгрыз остаток цюрихских галет, закусил шоколадкой, запил холодной, чуть солоноватой водой.
Нужно было собраться с мыслями. От событий и впечатлений голова шла кругом. Лучший способ систематизации и анализа сумбура – запись на бумаге.
Он вынул девник, огляделся. Стол есть, а сесть не на что. Завтра надо будет добыть стул или хотя бы табуретку. Пока пристроился на подоконнике, переставив туда лампу.
Поглядел в окно, но увидел лишь собственное отражение. Вот тебе на: лицо напуганное, прямо как у Пасюков. Не очень-то помогла внутренняя ирония.
«Что ты натворил? – будто вопрошало призрачное лицо. – Зачем ты сюда приехал? Это Цюрих тебе казался чужим городом? Это с швейцарцами ты не мог достичь взаимопонимания? А что у тебя общего с этой дырой? С Пасюками, похожими на жителей дальней планеты, с которыми непонятно, как и о чем говорить? С полковником Патрикеевым и капитаном Сокольниковым? Да, есть Петр Кириллович, но как нехорошо он изменился! Это тень прежнего Бердышева. Профессор Шницлер, герр Нагель, Магда тебе в тысячу раз ближе, понятней, милее, чем соотечественники!»
Чтоб лицо перестало мучить и задавать бесполезные вопросы, Антон распахнул окно.
Из сада потянуло свежим ветерком. И пришла мысль, хоть недостойная записи, но успокоительная.
«Эх, утро вечера мудренее».
Он зевнул, сладко потянулся.
Потом быстро разделся, сел на колкий матрас, пощупал его (кажется, сено), стал ложиться и уснул, еще не коснувшись головой подушки.
* * *
Так и вышло. Утро оказалось мудренее.
Проснувшись, Антон зажмурился от яркого солнца. Прямо за окном качались светло-зеленые ветви с мясистыми белыми цветами. Яблони.
Удивительно, что мысль, едва пробудившись, заработала живо и ясно, будто голова всю ночь решала поставленную задачу и теперь была готова к ответу.
Всё очень просто. Есть два способа существования: человек может выбрать маленькую жизнь или Большую Жизнь. В маленькой жизни (той, что осталась в Цюрихе) маленькие победы и маленькие поражения, маленькие злодейства и крошечные подвиги. В Большой Жизни амплитуда совсем иная, масштаб потрясений несопоставим: гибнут и зарождаются государства, сменяются исторические эпохи; злодей не уводит жену, а уничтожает целый город; герой спасает не утопающего, а нацию. У тебя была возможность уютно устроиться в маленькой жизни. Ты мог занять похвальную, отлично оплачиваемую нишу в обществе, обзавестись славным семейством и спокойно, бестрагедийно дожить года этак до одна тысяча девятьсот восьмидесятого. Но ты сам, не по принуждению, выбрал другой путь. Так не сбивайся с него. Не трусь, не ной. В Большой Жизни очень легко погибнуть, но зато, если найдешь здесь счастье, оно тоже будет большим. И может быть, тебе встретится женщина, идущая той же дорогой. Не уютная и простая, а сложная, непредсказуемая, размашистая – как твоя страна, в которую ты вернулся, чтобы здесь жить и чтобы здесь умереть.
Тебе всего двадцать третий год. Странно быть благоразумным в таком возрасте, а низко и мелко целить – стыдно. Да, в России очень страшно, но здесь интересно и всё по-настоящему. В Цюрихе ты мог бы дожить до своего девятьсот восьмидесятого года, так и не узнав, чего ты на самом деле стоишь. В России же – можешь не сомневаться – жизнь попробует на зуб, так что захрустят кости, и ты поймешь, из какого ты слеплен теста. Есть ли на свете что-то важнее этого?
Он вскочил, чтобы немедленно записать это открытие, очень важное и духоукрепляющее, но не мог вспомнить, куда ночью положил дневник, хотя в пустой комнате ему вроде и деться было некуда. Ладно, отыщется. И вообще – хватит тратить порох на самокопание и нарциссическую писанину. Впереди серьезная работа совсем другого жанра.
Вчера задание Петра Кирилловича при всей лестности произвело на Антона впечатление некоторого безумия. Поручить мальчишке, недоучившемуся студенту, составление докладной записки о будущем государстве? Бред! Однако в том и состоит гениальность Бердышева, что он вычитал между строк цюрихского письма – или прозрел в глазах своего увлеченного слушателя – нечто особенное и сказал себе: «От этого парня может быть польза. Нам не помешает пусть наивный, но свежий взгляд на ситуацию». В свежести своих идей Антон не сомневался, а насчет наивности – тут Петра Кирилловича, очень возможно, ждал сюрприз. К своему проекту Антон намеревался приступить с педантичной обстоятельностью, которой научился у профессора Шницлера.
На свежую голову поставленная задача рисовалась еще более величественной и волнующей. Речь шла не просто о создании страны нового типа – интеллигентской республики. Тут просматривались контуры модели, применимой и в глобальном масштабе: конец эпохи межклассовых войн, переход социальной эволюции из примитивно-истребительной фазы в соревновательную…
Но здесь Антон придержал полет мысли, чтоб вовсе не оторваться от земли – он знал за собой этот грех. Витать в облаках в таком деле было непозволительно. И хоть не терпелось сразу сесть к письменному столу, наложил 72-часовой мораторий на всякое писательство. Сначала требовалось собрать необходимую информацию о Крыме, ну и, конечно, хоть немного осмотреться – ощутить пульс и дыхание местной жизни.
В городской библиотеке того, что нужно, Антон не нашел. Сведения были старые, совершенно бесполезные – даже не дореволюционные, а довоенные. Получить доступ к данным по сегодняшнему состоянию Крыма можно было бы через Бердышева (тот ведь и предлагал), но совестно докучать государственному человеку, а кроме того, если честно, хотелось его удивить: положить на стол не школьное сочинение – подробный доклад с цифрами и выкладками.
Непростую задачу Антон сумел решить сам – в первый же день. Помогли наблюдательность и сообразительность.
Утром шофер доставил от капитана Сокольникова пакет. Там кроме хлебных карточек, «подъемных», пачки бумаги, коробки химических карандашей и связки стеариновых свечей (всё, как вскоре выяснилось, дефицитнейшие вещи) было удостоверение «советника правительства Юга России». Книжечку с двуглавым бескоронным орлом Антон счел чем-то вроде охранной грамоты на случай проверки документов. Однако, гуляя по Екатерининской, самой оживленной улице Севастополя, случайно увидел вывеску «Статистический комитет Управления внутренних дел правительства Юга России». Вошел, предъявил удостоверение – и был немедленно препровожден в кабинет к начальнику, который принял посетителя со всей почтительностью и распорядился предоставлять господину советнику любые сведения по первому требованию, без задержек.
Составился рабочий график.
Проведя утро в ознакомлении со статистическими материалами, Антон отправлялся на рекогносцировку в город. Ходил по магазинам и рынкам, записывал цены, составлял список наличных и дефицитных товаров. Побывал на бирже труда, потолкался на «черном рынке». Ну и просто смотрел, слушал, мотал на ус.
Севастополь уже не казался ему грязным, убогим и нищим. Вероятно, по сравнению с другими областями страны, которая четвертый год пребывала в смуте и разрухе, город мог считаться благополучным. На улицах стреляли только по ночам, нечасто, голода же не ощущалось вовсе. Нечего и сравнивать с коммунистическим Петроградом. Все-таки юг, и разрешена торговля. По карточкам выдавали только хлеб, по фунту в день – не так мало. Дешевой еды хватало. Уж хамсу или селедку с «шрапнелью», то есть перловой кашей, себе мог позволить всякий.
Ознакомительная версия.