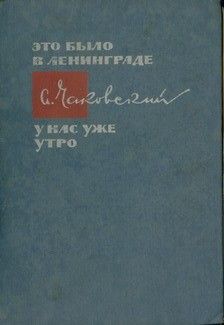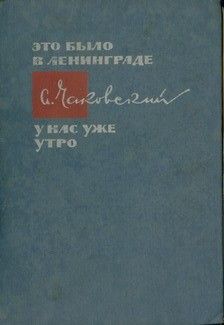Потом мы стояли друг против друга у окна, и в комнате было светло, потому что светила луна, и лунный свет, такой холодный там, на Ладоге, показался мне сейчас очень тёплым, точно светила не луна, а солнце. За окном был виден Исаакий и угол Мариинского дворца. Над крышей дворца виднелся огромный стеклянный фонарь, и казалось, что в нём все стекла целы, хотя этого, конечно, не могло быть.
Он спросил меня, помню ли я, как мы любили в лунные ночи смотреть из окна на Исаакий.
— Конечно, помню, — сказала я.
И мы долго-долго всё вспоминали. «Ты помнишь?» — говорил он. «А ты помнишь?» — спрашивала я. Мы вспоминали даже то, что казалось навсегда позабытым, и так хорошо было оттого, что, оказывается, мы оба помним это.
И всё теплее и светлее становилось в комнате. Я сбросила с плеч полушубок и даже стёганку свою расстегнула и тут же подумала: какая я была глупая, когда боялась, что он увидит меня такой, какою я стала, в этой неуклюжей одежде, с красными, обмороженными руками и обветренным лицом! Между нами шёл тот разговор, который бывает между двумя людьми, когда понимаешь с полуслова, с полунамёка, когда всё, что говорит другой, кажется значительным, когда любишь!..
Я стала рассказывать ему, что произошло за последние часы, как добралась сюда и ждала. Мне было очень приятно теперь говорить об этом, как бывает приятно вспоминать и говорить о трудном и опасном деле, когда оно уже позади, а ты сидишь в тёплой палатке у огня, с хорошими людьми. И я подумала, что хорошо бы теперь, когда мы наконец нашли друг друга, никогда не расставаться и уехать куда-нибудь, где тепло и вместо гула самолётов поют птицы, земля покрыта травой и нет воронок от снарядов…
Но, подумав об этом, я вздрогнула. Мне показалось, что я произнесла свою мысль вслух, и я посмотрела на Сашу: не слышал ли он, как я это сказала? Мне стало не по себе, точно я сделала что-то очень плохое.
— Что с тобой? — спросил Саша.
— Ничего, — сказала я, — просто будто холоднее стало в комнате.
Он укрыл меня своим полушубком. Я посмотрела в окно, и мне почудилось, что весь озарённый лунным светом Ленинград смотрит сейчас в наше окно и я с глазу на глаз с ним.
Я опустила голову Саше на колени. Он поцеловал мои волосы, и от прикосновения его губ мне стало теплее.
Теперь я ничего не видела, лежала, уткнувшись в его колени, крепко закрыв глаза, и мне казалось, что в красноватом тумане медленно, как снижающийся аэростат воздушного заграждения, плывёт одинокая чёрная точка. Когда точка уплыла куда-то вниз, я подняла голову и открыла глаза.
Я сидела, прижавшись лицом к плечу Саши. Он гладил мои волосы, целовал окоченевшие пальцы.
Мы вспомнили об Ирине.
— Я был у неё, — рассказывал Саша. — Она стала очень странной, исступлённой. Какое-то спокойное исступление.
Я подумала, что «исступление» — не то слово, но что именно оно приходит первым на язык.
— Она очень много пережила, — тихо сказала я.
— Да, да, — поспешно согласился Саша, — я всё знаю. — И он задержал свою руку на моих волосах.
— Отчего, когда ты дотрагиваешься до головы пальцами, мне становится теплее! А ведь они у тебя холодные, Саша, прямо ледышки.
— Это тебе просто кажется, — ответил он.
— Кажется, кажется! — вдруг громко вырвалось у меня. — Отчего именно теперь так много кажется? Вот луна светит, а кажется, что это солнце, и стёкла в фонаре на Мариинском дворце кажутся целыми.
— Это мосты в прошлое, — сказал он. — Я думал об этом. Поэтому все в армии земляков ищут. Это тоже мосты в прошлое. Без этого трудно жить.
— Как ты думаешь, — спросила я, — что сделают с Гитлером?
— Не знаю.
Я снова опустила голову к нему на колени и закрыла глаза. Как хорошо мне было сейчас! Не поднимая головы и не открывая глаз, я сказала:
— Знаешь, что, милый, давай совсем-совсем не будем говорить о войне. Ну, будто ничего нет, никакой войны. Я буду вот так сидеть с закрытыми глазами, и ты глаза закрой…
Где-то раздался выстрел, свист и далёкий разрыв, но я сделала вид, будто ничего не слышала, и он тоже ничего не сказал.
— Ты бы хотела уехать из Ленинграда? — вдруг спросил он.
Я поднялась и ответила сразу:
— Нет.
— А мне показалось, будто ты хотела бы уехать отсюда.
— Это только кажется, — тихо ответила я.
Вдруг он схватил меня за плечи и стал целовать, целовать…
— Ты знаешь, — сказал он потом, — мне почему-то представилось, что сейчас кто-то постучит в дверь или войдёт без стука и скажет, что тебе надо уходить. И я представил себе, как сижу один в комнате, где только что была ты.
Я прижалась щекой к его щеке. Мы молчали.
— Сколько новых морщинок у тебя, — сказала я.
— Ну, не смотри, а то я тоже начну считать.
— Ты всё время на Волховском фронте?
— Да.
— Где вы там живёте?
— В поезде.
— В поезде?
— Да. Поезд-редакция.
— Тепло?
— Да. И электричество есть — своя станция.
— А где сейчас федюнинцы? — спросила я.
— Под Любанью.
— И здесь говорят, что под Любанью. Здесь со дня на день ждут, что блокада будет прорвана.
— Наверное. Войск наших полно. И ещё подходят. Ты подумай только: снова пойдёт «Стрела» Ленинград — Москва. Так хочется хоть немножко забыть о войне.
— Я так стосковалась по тебе. У меня ведь теперь никого, кроме тебя, не осталось.
— Лидуша, родная моя… Я боялся коснуться этого… Боялся спрашивать… Я всё знаю из того единственного письма, которое получил… И от Ирины…
Я прервала его:
— Нет, нет, нет, я не хочу вспоминать. Мне иногда хочется совсем потерять память. Ведь бывает же такая болезнь, что человек совсем теряет память.
Он посмотрел на меня и спросил:
— Тебе холодно? Ты вся дрожишь.
Он снял с меня валенки и закутал ноги одеялом. У меня почему-то стала кружиться голова, но мне это было приятно. Он сел рядом со мной на диван и стал рассказывать о моём доме за Нарвской. Оказывается, там теперь расположились огневые точки, а в моей комнате сидит артиллерийский наблюдатель.
Я почувствовала внутреннее удовлетворение оттого, что мой дом стал дотом. И подумала: «Это хорошо, так и должно быть».
И вдруг вспомнила Ладогу. Я почувствовала какой-то страх, растущую тревогу.
Мне захотелось убежать от этого чувства, заглушить его. Идти куда угодно по снегу, через сугробы, только бы остаться одной и разговаривать со своей совестью. Но тут я посмотрела на Сашу и поняла, что ни одного мгновения не смогла бы быть одна, зная, что он тут, неподалёку. Я сказала себе: надо быть до конца честной. И спросила его:
— Ты ведь был на Ладоге?
…Теперь мне было так хорошо! Я боялась спать, боялась закрыть глаза, чтобы не перестать чувствовать своё счастье. Я стала жадной до счастья. Боялась потерять хотя бы крошку его.
Мы лежали в постели, и в комнате было совершенно светло, потому что луна стояла против нашего окошка.
— Хорошо, что мы встретились здесь, — проговорила я. — Ведь всё могло случиться иначе.
— Конечно, — согласился Саша, — нам просто повезло.
— Нет, я не о том. Скажем, я эвакуировалась бы, и ты тоже, и мы встретились бы где-нибудь на Волге или на Урале…
— Ну и что же?
— Ну, мне трудно это объяснить, — продолжала я. — Но есть какое-то особое счастье, когда люди, чтобы встретиться, переплывают бурный океан и в дороге ведут себя смело… Мне сейчас кажется, что наша встреча — награда за то, что мы пережили.
Он улыбнулся.
— Кто же нас наградил?
— Никто. Ты не смейся. Справедливость. Мне кажется, если человек ведёт себя честно и не хитрит в жизни, он должен быть награждён.
— Справедливость всегда торжествует, — сказал Саша. Он по-прежнему улыбался.
— Да, это ещё в детских хрестоматиях было написано. А теперь, мне кажется, это — наша правда. Ну, что ты всё улыбаешься?
Он обнял меня и поцеловал мои глаза.
Потом я услышала музыку, кто-то играл на рояле, и Саша сказал мне, что это старый музыкант приходит играть на сохранившемся в гостинице инструменте.
Мне было странно слышать музыку, настолько я отвыкла от неё.
Я не помню, как заснула…
…Только что мы расстались. Ночь и день провели мы вместе. Мы не могли не расстаться: война. Смешно же было думать, что она не коснётся нас.
Мне кажется, что и сейчас ощущаю на губах этот прощальный поцелуй на морозе… Мы расстались у Пороховых заводов — обычное место, где «ловят» машины, идущие через Ладогу на Большую землю. Я и сейчас ещё вижу эту машину, трёхтонку, гружённую пустыми, громыхающими бочками. Неудобная машина попалась ему… Оказывается, надо стоять не около дороги, робко подняв руку, — так шофёр ни за что не остановит машину, — а стать посредине дороги, поднять руку ладонью к машине и стоять, пока шофёр не затормозит. Только так и можно уехать…