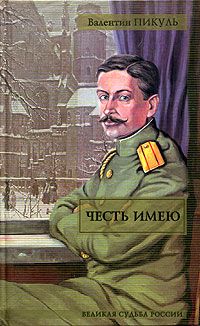В эти годы – на переломе веков – русские журналисты вполне серьезно, без тени улыбки на лицах, писали, что дуалистическая Австро-Венгрия – это двуединая монархия, которая с одной стороны омывается чистыми водами Адриатического моря, а с другой стороны она усиленно загрязняется старым императором Францем Иосифом. Если тогда о Турции дипломаты говорили как о «больном человеке Европы», то габсбургская империя в их беседах подразумевалась не иначе как «давно съеденная червями». Так было. Многое тогда было…
* * *
Неожиданно вспомнилось. В доме своих дальних сородичей я однажды повстречал знаменитого юриста Владимира Даниловича Спасовича, когда-то профессора уголовного права, учебник которого был запрещен цензурою. Старик был известным теоретиком научной криминалистики, но удивлял современников разносторонностью своих познаний и много писал – о Гамлете, о дружбе Шиллера и Гёте, Пушкина и Мицкевича, о байронизме Лермонтова. Теперь он рассказывал о своем путешествии по Далмации, Боснии и Герцеговине – и столь же ярко, как писал Пьер Лоти о странах Востока. Внимая ему, я тогда уже уразумел, что на Балканах издревле затаился какой-то неведомый и волшебный мир, едва схожий с тем миром, о котором пелось в «лазарицах» матери.
Сейчас мне трудно воскресить подлинные слова Спасовича, и, чтобы оживить свою память, я нарочно перелистал III и IV тома собраний его сочинений, где он описывает свои впечатления, ставшие моими… Так уж получилось, что из гостей мы вышли на улицу вместе, помню, сыпал нудный осенний дождик. Спасович любезно предложил отвезти меня до дому в своей коляске. Прощаясь, он дружелюбно предупредил меня:
– Мой юный правовед, еще в мундире «чижика» вы обязаны заранее предрешить благородство юридической стези, избранной вами. Как бы вы ни изучили законы, вы всегда останетесь для народа в роли сатрапа и палача, если не станете руководствоваться правилами священного гуманизма.
Я честно признал, что освоение законов империи давно не тешит моего сердца, напротив, я все более отвращаюсь от юридической службы, с ужасом думая о своем будущем:
– Я очень хочу жить в будущем, но еще не знаю – как жить, что делать, куда идти, где поворачивать… Я читал ваши речи в судах и, простите, не вижу пользы от них, когда вы добела отмывали заведомо черное, достойное сурового наказания.
Вряд ли слова мои были приятны старому адвокату.
– С такими настроениями, – ответил Спасович, – вам, милейший, лучше оставить правоведение. Кто-то один из нас глупее – или вы, вступающий в жизнь, или я, покидающий ее юдоль. Если вам не нравится ваш путь, так пытайтесь проторить новый, а я с высот горних посмотрю, что из вас получится…
Я не хотел обидеть старика, но, кажется, обидел. А его рассказы о южных славянах глубоко запали мне в душу, и я уже видел себя на Балканах… Кем? Просто русским другом, а иной роли для себя я не мог придумать.
4. В пещерах жизни
В моем сознании, еще довольно шатком, афоризм Лютера стал перекликаться с известным заветом критика Писарева, который я твердо вызубрил наизусть: «Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий».
Я заметно охладел к занятиям в Училище, загружая свою голову неустанным чтением книг по разным вопросам – от зоологии беспозвоночных до выводов Канта и Гегеля. Повзрослев, я начал испытывать молодое горячее нетерпение: «Как? Прожито почти двадцать лет, и за это время я не только ничего не создал полезного, но даже ничего не разрушил вредного…»
А что я мог разрушить? Только самого себя.
Перейдя в высший класс Училища, я обрел право носить шпагу, при мундире я надевал парадную треуголку.
Но, выходя в свет, сначала угодил в потемки…
Давно все растеряно! Я лишился в жизни четырех библиотек и собрал под старость пятую, я не раз мог сломать себе шею, но каким-то чудом уцелела у меня вот эта карточка:
ЖОЗЕФ ИППОЛИТОВИЧ ПАШУЗАХОДИТЕ, ВСЕХ ПРОШУ!Загородный, 26. Тел.: 2496Только виноградные вина!
Мне даже самому интересно теперь писать об этом.
А все началось с венка – для покойника…
* * *
XIX век заканчивался. Эйфелева башня в Париже уже была признана высочайшим сооружением мира, на улицах столиц появился бензиновый угар первых автомобилей, в квартирах зазвенели телефоны, публика спешила по вечерам смотреть «фильму», наконец, в домах возникло и паровое отопление…
Так что прогресс человечества не топтался на месте!
Россия энергично сближалась с Францией, она расходилась с Англией и побаивалась союза Германии с Австрией, но почему-то совсем не пугалась Японии; Нансен блуждал тогда в полярных просторах; в Афинах возродились забытые Олимпийские игры, граф Цеппелин создавал дирижабли, в Гааге открылась международная конференция о всеобщем разоружении, после чего все страны начали усиленно вооружаться… Германский император Вильгельм II даже не скрывал своего боевого азарта:
– Этот фокус в Гааге придумала Россия, но пусть в Петербурге не думают, что я покидаю в море свои пушки, лучшие в мире, и пусть русские торчат в Маньчжурии, а в Европе они всегда получат от меня коленом под зад…
Я вспоминаю. Однажды из газет правоведы известились о кончине престарелого актера С., одинокого человека, угасшего в номерах Пале-Рояля, давнем притоне художественной богемы столицы. Мы собрали деньги на венок артисту, мне выпал жребий отнести его на Пушкинскую улицу. Был, помнится, очень жаркий день, все плавилось в зное булыжных мостовых. Венок (кстати, громадный) оказался старым, пока я тащил его на себе от Фонтанки, он осыпался так, что по его шелухе можно было проследить весь мой путь от «Правоведения» до Пале-Рояля.
Я долго мыкался среди номеров, где по коридорам слонялись непризнанные гении и спившиеся трагики, просто неудачники и писательская мелюзга, не способная отличить гранок от верстки. Наконец франтоватая ведьма, украшенная под глазом дивным перламутровым синяком, с сатанинским хохотом указала мне нужную дверь. Кажется, я попал – куда надо! На убогой койке лежал покойник в рваных носках, лицо его было закрыто платком, по которому ползали черные отвратные мухи.
В этом же номере сидел за столом непомерно толстый человечище, остриженный «под новобранца», и что-то писал. Вкратце я изложил этому чудовищу, что мы, будущие правоведы великой и многострадальной России, высоко чтящие бескорыстное служение святому искусству, приносим праху усопшего скромный дар наших искренних чувств… Толстяк заплакал. Я никогда еще не видел столько бурных слез, – они обильным потоком заливали его рыхлое, разбухшее и болезненное лицо.
– Ах, как это благородно! – сказал он, обнимая меня.
После чего вернулся к столу и невозмутимо продолжил письмо. С улицы доносилось громыханье телег, матерная брань гужбанов-извозчиков, а венок так оттянул мне руки, что я был бы очень рад поскорей от него избавиться.
– А куда мне его возложить? – спросил я.
– Вали на дохлятину, – сказал толстяк, сморкаясь…
С некоторым благоговением я возложил венок на мертвеца и даже постоял над бездыханным трупом, имея выражение неподдельной горести на лице. Кажется, я еще сказал при этом:
– Какая утрата для нашего искусства… правда?
Толстяк согласился, что утрата для России ужасная.
– Садись, чижик. Выпьем рюмку, выпьем две…
Он вложил письмо в конверт, поверху коего уверенной рукой начертал без запинки адрес; краем глаза я прочитал:
Ищите в Саперном переулке дом,где продаются булки,квартира сороковая,для мадам Е. Б. Роковая.Обратный адрес: Пале-Рояль,Ничего от прошлого не жаль.
Назвавшись Михаилом Валентиновичем Щеляковым, толстяк большим, как лопата, языком увлажнил почтовую рамку.
– Беда со мною, – сказал он вдруг. – Я ее, стерву, обожаю до безумия, а она свою любовь раздаривает другим.
– Так бросьте ее, неверную! – посоветовал я.
Щеляков щедро разлил вино по стаканам.
– Я тебе не о жене – о литературе. Это женщину можно бросить и найти другую. А литературу разве бросишь?
– Так вы… писатель? – восхитился я.
– Грешен, – скромно ответил Щеляков[1].
При этом он смотрел мимо меня. Я оглянулся. Покойник уже сидел на постели, просунувшись головой в мой венок, словно олимпиец, увенчанный лаврами. Он обложил нас «сволочами».
– Без меня пьете? – И сам двинулся к столу, развеваясь траурной лентой, на которой сусальным золотом было начертано:
НЕТ, ТЫ НЕ УМЕР – ТЫВСЕГДА ЖИВЕШЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Даже не вчитавшись в надпись, он зашвырнул венок в угол. Я понял, что попал не в тот номер и накрыл венком не артиста, а кого-то другого. Впрочем, это уже безразлично. Воскресший, опохмелив себя шампанским, снова опочил сном праведника.