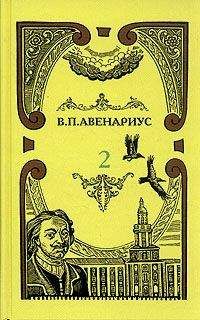— Покорно благодарю, ваше благородіе; нынче же по вечеру отпрошусь къ вамъ.
— Приходи, приходи, любезный. А господину Шувалову мой всенижайшій поклонъ и привѣть.
Солнце еще не сѣло, когда Самсоновъ поднимался по черной лѣстницѣ академическаго зданія въ верхній этажъ, гдѣ Тредіаковскому была отведена скромная квартирка въ одну комнату съ кухней, часть которой была отгорожена для прихожей. Колокольчика y двери не оказалось; пришлось постучаться. Только на многократный и усиленный стукъ впустилъ молодого гостя самъ хозяинъ. Вмѣсто форменнаго кафтана на немъ былъ теперь засаленный халатъ съ продранными локтями, а вмѣсто парика — собственная, всклокоченная шевелюра; въ рукѣ y него было гусиное перо: очевидно онъ былъ только-что отвлеченъ отъ бесѣды съ сестрицами своими — музами.
— Прошу прощенья, сударь, — извинился Самсоновъ: — я никакъ помѣшалъ вамъ…
— Ничего, любезный, — снисходительно кивнулъ ему Тредіаковскій; — y меня ни часу не пропадаетъ втунѣ; "carpe diem", сирѣчь "пользуйся днемъ, колико возможно".
— А я думалъ уже, не пошли-ли вы прогуляться, да и прислугу отпустили со двора: погода славная…
— "Поютъ птички со синички,
Хвостомъ машуть к лисички"? —
вѣрно; благораствореніе воздуховъ. Но нашъ брать, ученый, бодрость и силу изъ книгъ почерпаетъ. А что до прислуги, то таковой я второй годъ ужъ не держу. Была старушенція, да Богу душу отдала. Съ того дня живу какъ перстъ, самъ себѣ господинъ и слуга.
Говоря такъ, Василій Кирилловичъ прошелъ въ свою комнату и усѣлся за столъ, безпорядочно заваленный бумагами, а Самсонову милостиво указалъ на другой стулъ, дырявый, y стѣны.
— Садись ужъ, садись, да чуръ — съ оглядкой: одна ножка ненадежна.
— Коли дозволите, я вамъ ее исправлю, — вызвался Самсоновъ: — захвачу изъ дому столярнаго клею…
— И благо. Чего озираешься? Не вельможныя палаты. Года три назадъ, еще приватно на мытномъ дворѣ проживающий, погорѣлъ до тла; однѣ книги изъ огня только и вынесъ; омеблемента и поднесь еще не обновилъ.
"Омеблементъ", дѣйствительно, былъ очень скуденъ и простъ. Даже письменный столъ былъ тесовый, некрашенный. Единственнымъ украшеніемъ небольшой и низкой комнаты служили двѣ полки книгъ въ прочныхъ, свиной кожи, переплетахъ.
— А развѣ г-нъ совѣтникъ не испросилъ вамъ пожарнаго пособія? — замѣтилъ Самсоновъ.
Василій Кирилловичъ безнадежно махнулъ рукой.
— Станетъ этакій ферфлюхтеръ хлопотать о русскомъ человѣкѣ!
— А на него и управы нѣтъ?
— На Іоганна-Данилу Шумахера управа? Га! Этому Зевесу и нѣмцы-академики въ ножки кланяются. Одначе, пора намъ съ тобой и за дѣло. Ты грамотѣ-то сколько-нибудь обученъ?
— Нисколько-съ.
— Какъ? и азбуки не знаешь?
— И азбуки не знаю.
— Эхъ, эхъ! Когда-то мы съ тобой до реторики доберемся.
— А это тоже особая наука?
— Особая и преизрядная; учитъ она не только красно говорить, но еще чрезъ красоту своего штиля и къ тому слушателей приводитъ, что они вѣрятъ выговоренному; подаетъ она и искусный способъ получать милости отъ знатныхъ лицъ, содѣя тебя властителемъ надъ человѣческими сердцами.
— Куда ужъ мнѣ заноситься такъ далеко! Дай Богъ сперва хоть научиться простой грамотѣ да цыфири.
— Да, цыфирь, иначе математика, находится тоже въ столь великомъ почетѣ, что изъ оной знать надлежитъ по меньшей мѣрѣ наиспособнѣйшее и наіупотребительнѣйшее — четыре правила ариѳметики. Нынѣ же начнемъ съ первыхъ азовъ родной рѣчи. Принцъ Антонъ-Ульрихъ, при пріѣздѣ шесть лѣтъ тому въ Питеръ, не зналъ по-русски и въ зубъ толкнуть. Мнѣ выпало тогда счастіе обучать его какъ нашему языку, такъ равно и россійской грамотѣ. Начерталъ я для его свѣтлости наши литеры и каллиграфныя прописи. Теперь оныя и для тебя пригодятся: честь, братецъ, немалая.
Съ этими словами Тредіаковскій досталъ съ полки переплетенную тетрадь, гдѣ въ началѣ была имъ «начертана» крупнымъ шрифтомъ русская азбука, а далѣе — прописи. Такъ какъ его первый ученикъ, принцъ брауншвейгскій, прибывъ въ Россію на 20-мъ году жизни, умѣлъ уже, конечно, и читать, и писать по-нѣмецки, то учителю не было надобности обучать его русскимъ буквамъ и складамъ по тогдашнему стародавнему способу: "Азъ, Буки — Аб", "Буки, Азъ — Ба" и т. д. Выговаривалъ Василій Кирилловичъ русскія буквы по-нѣмецки: "А, Бе". Къ этому упрощенному пріему обратился онъ и съ своимъ новымъ ученикомъ и былъ пріятно пораженъ, съ какою быстротою и легкостью тотъ схватывалъ первоначальную книжную мудрость.
— О! да этакъ y тебя и чтеніе скоро пойдетъ какъ по маслу, — сказалъ онъ. — Вотъ постой-ка, есть y меня тутъ нѣкая торжественная пѣснь: еще въ бытность мою въ Гамбургѣ сочинена мною на коронацію нашей благовѣрной государыни императрицы. Самъ я буду читать, а ты только слѣди за мной.
И, развернувъ на столѣ передъ ученикомъ большой пергаментный листъ, онъ сталъ, не торопясь, но съ должнымъ паѳосомъ, считывать съ листа свою "пѣснь", водя по печатнымъ строкамъ ногтемъ:
— "Да здравствуетъ днесь Императриксъ Анна
На престолъ сѣдша Увѣнчанна"…
— «Императриксъ» — это что же? — спросилъ Самсоновъ. — Императрица?
— Ну да; но по-латыни.
— А зачѣмъ же было не сказать то же по-русски?
— Высокая, братецъ, матерія требуетъ и штиля высокаго. Для тебя сіе, я вижу, еще тарабарщина. Прочитаю-ка тебѣ нѣчто болѣе доступное, — про грозу въ Гаагѣ, городѣ голландскомъ: самъ ее испытавши, тогда жъ и воспѣлъ. Слушай.
И Самсоновъ услышалъ, какъ "набѣгли тучи, воду несучи… Молніи сверкаютъ, страхомъ поражаютъ, трескъ въ лѣсу съ Перуна, и темнѣетъ Луна… Всѣ животны рыщутъ, покою не сыщутъ; біютъ себя въ груди виноваты люди… руки воздѣваютъ, на небо глашаютъ."
Голосъ чтеца гремѣлъ, очи метали молніи. И вдругъ изъ тѣхъ же очей свѣтлый лучъ, а изъ устъ медовые звуки: "О, солнце красно! Стань опять ясно, разжени тучи, слезы горючи… А вы, Аквилоны, будьте какъ и оны; лютость отложите, только прохладите… Дни намъ надо красны, пріятны и ясны."
Неизбалованный слухъ Самсонова ласкало со звучіе риѳмъ, а потому на вопросъ: "каковы стихи?" — онъ отвѣчалъ вполнѣ чистосердечно:
— Превосходны-съ!
Василій Кирилловичъ самодовольно улыбнулся.
— Это, братецъ ты мой, только цвѣточки; а ужъ ягодки у меня!..
"Однако онъ меня своими ягодами, пожалуй, еще обкормитъ! Хорошаго понемножку," подумалъ Самсоновъ и взялся за картузъ.
— Ты что жъ это, уже во-свояси? — съ видимымъ сожалѣніемъ спросилъ декламаторъ.
— Да, ваше благородіе, пора. Много вамъ благодаренъ…
— И есть за что. Сама вѣдь государыня императрица какъ меня цѣнитъ! До гробовой доски не забуду, какъ пѣлъ я передъ нею сочиненную мною на голосъ оду на новый 1733 годъ!
— Сами же и пѣли?
— Собственной персоной. Голосомъ Богъ не обидѣлъ. Государыня изволила возлежать въ своемъ креслѣ y пылающаго камина, а я, смиренно проползши отъ порога до ея стопъ на колѣняхъ, въ такой же позитурѣ пѣлъ свою оду; когда жъ допѣлъ, ея величеству благоугодно было державною дланью ударить меня по ланитѣ. Незабвенная оплеушина!.. Ну, прощай, любезный, утѣшилъ ты меня. Завтра, о сю же пору, жду тебя опять неуклонно.
VII. Прогулка по Лѣтнему саду
Нѣсколько дней уже Лилли Врангель провела подъ кровлей Лѣтняго дворца, но не удостоилась еще представленія императрицѣ. Изъ всѣхъ обоего пола обитателей дворца она болѣе или менѣе сошлась пока только съ нѣмкой мадамъ Варлендъ, которой были поручены главный надзоръ надъ дворцовыми птичниками и дрессировка для государыни разныхъ птицъ. Въ Зимнемъ дворцѣ былъ отведенъ для пернатыхъ, какъ она слышала, особый дворъ; въ Лѣтнемъ же саду имѣлась даже цѣлая "менажерія": въ одной большой общей клѣткѣ содержались всевозможныя лѣсныя пташки, нѣкоторыя "заморскія" птицы и всякая домашняя; соловьи и орлы сидѣли въ отдѣльныхъ клѣткахъ; точно такъ же отдѣльно помѣщалось и разное мелкое звѣрье: мартышки, сурки и т. п.
Собственно на «птичный» дворъ ни гулявшая въ Лѣтнемъ саду посторонняя публика, ни жильцы Лѣтняго дворца вообще не имѣли доступа. Но для Лилли мадамъ Варлендъ дѣлала изъятіе изъ общаго запрета, такъ какъ дѣвочка съ такимъ неослабнымъ интересомъ относилась къ ея питомцамъ. Чего-чего не узнала отъ нея Лилли! Такъ, напр., что большая клѣтка оставляется на зиму подъ открытымъ небомъ, но отъ морозовъ и снѣга покрывается войлочнымъ чехломъ; что всего больше хлопотъ и заботъ y мадамъ Варлендъ съ выучкой одного сѣраго, съ краснымъ хохолкомъ, красавца-попугая, который, по приказу государыни, выписанъ нарочно изъ Гамбурга и будетъ подаренъ его свѣтлости, герцогу курляндскому, въ день его рожденія — 13-го ноября; что и русскихъ-то птицъ не такъ легко получать въ желаемомъ количествѣ: хоть бы вотъ купецъ Иванъ Симоновъ подрядился наловить 50 штукъ соловьевъ по 30 коп. за штуку (легко сказать! этакія деньги!), а къ осени надо, во что бы то ни стало, раздобыть еще сотню; про обыкновенныхъ пичугъ: скворцовъ, зябликовъ, щеглятъ, чижей, — и говорить нечего…