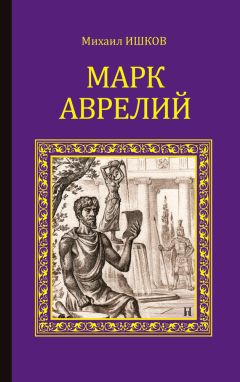– Как здоровье, Матидия?
– Пока не жалуюсь, цезарь.
– Называй меня Марком. Ты в моем доме, мы дружим с детства.
Женщина сняла митру – кожаную шапочку с завязками под подбородком, обнажила голову. Была она в далматике – длинной тунике с широкими рукавами. Волосы были заплетены в косы и, обвивая голову, уложены в пучок, который скреплял дешевый налобник.
– Спасибо, Марк.
– Что нового в Риме, Матидия? – спросил Марк.
– Все ждут известий с границы, – ответила женщина. – Народ славит твое имя за то, что ты не поскупился на возмещение ущерба людям, пострадавшим во время разлива Тибра и отправил хлеб для жителей италийских городов, испытывавших голод.
– Это мой долг, – ответил Марк.
Он расспросил ее о прежних знакомых – о тех, кто не добился чинов, кто вел жизнь тихую, частную, о занятиях и умонастроениях которых не сообщали ни префект города, ни его преторы, ни соглядатаи. Поинтересовался, как относятся в Риме к спору, возникшему между лакедемонянами и мессенцами по поводу прав на владение храмом Дианы Лимнатиды. Матидия ответила, что ничего не слышала о таком храме и о разногласиях в сенате, возникших вокруг этого дела. К тому же споры каких-то греков ее мало занимали.
– В Риме сейчас только и разговоров о несчастной Галерии, выброшенной из окна сумасшедшим Ламией Сильваном, – поделилась она.
– Да, – кивнул Марк, – префект города писал мне об этом трагическом событии.
Матидия с некоторым удивлением глянула на Марка, однако тот молчал и доброжелательно смотрел на посетительницу.
Матидия вздохнула.
– Я боялась огорчить тебя этим известием, – осторожно начала она, – ведь Галерия твоя сестра, правда, неродная, – Матидия на мгновение примолкла, потом еще более осторожно спросила: – Ты, Марк, как видно, уже и думать забыл о ней. Как, впрочем, и о сестре Вера Фабии, с которой когда-то был помолвлен.
– Я огорчен, Матидия. Однако объясни, причем здесь Фабия?
Женщина не ответила, отвела взгляд, затем принялась разглядывать нехитрую обстановку, находившуюся в императорском шатре. Негусто для властелина мира – несколько табуретов и клисмосов[18], сундуки и два шкафа для платья, возле рабочего места удобное кресло с наброшенной на сидение подушкой, стол для свитков, книжный шкаф. Оглядевшись, она продолжила:
– Народ требует сурового наказания преступника. Фаустина прислала грозное письмо, а префект почему-то медлит. С другой стороны, народ и Фаустину обвиняет в ее смерти. И Фабию…
Она замолчала, разговор вновь увял.
– Объясни толком, что именно говорит народ? – попросил император.
– Мне бы не хотелось выглядеть в твоих глазах сплетницей, не затем я отправилась в такую даль, однако не буду скрывать, что кое-кто полагает, что Фабия настойчиво пыталась склонить Галерию к публичному признанию, что, мол, Коммод не твой сын. Мол, Галерия была посвящена в эту тайну.
– Это злобная клевета. Мне точно известно, что Коммод мой сын.
– И я о том же. Однако народ привык верить худшему, и в таких делах правда никого не интересует. Фабия уверяет, что у Галерии были доказательства, какие-то письма…
Боги, опять Фабии неймется!
– Я действительно сожалею о смерти Галерии. Она не заслужила такой судьбы. Горько сознавать, что пришел черед нашим сверстникам спускаться в Аид.
– Зато Фронтон, учивший тебя ораторскому искусству, поправился и сейчас бодр, как и два года назад, – сообщила Матидия, – Говорят, его зять Ауфидий Викторин собирается издать его труды.
– Труды? – удивился Марк и осторожно почесал висок. – Наверное, речи, а также письма. Он очень искусно составлял их. Это были скорее не письма, а трактаты или наставления. Видно, слава Сенеки не дает Фронтону покоя.
Марк выпрямился на стуле, чуть подался вперед, отставил правую ногу, вскинул руку и принялся декламировать.
– Красноречие правителя должно быть подобно зову походной трубы, а не звукам флейты. Меньше звонкости, но больше весомости.
Матидия и Александр засмеялись, в глазах юного Бебия тоже блеснули веселые огоньки.
Марк усмехнулся.
– Фронтон, правда, всегда испытывал некоторую ревность к тем, кто мастерски владел словом. Помнишь Герода Аттика? Твой муж как раз занимался этим судебным процессом. Никто лучше Бебия не умел передразнивать нашего знаменитого оратора. Помню тот день, когда вы навестили меня в доме Тиберия. То-то было весело.
Марк Аврелий встал, перекинул край тоги через руку, расправил ее, напомнил:
– Бебий тогда выступил с речью в защиту котов. Это было забавно, – затем оттопырил губу, подражая Бебию, громко провозгласил:
– Граждане, будь я магистратом, я мог бы из соображений безопасности государства и якобы незначительности ущерба закрыть глаза на плутни ваших котов, без зазрения совести пожирающих не только мышей и крыс, но посягающих на человеческую пищу, как-то: сметану, молоко, копченое мясо и, что нетерпимо более всего, свежую рыбу. Я мог бы закрыть глаза, если бы эти полосатые хищники съедали овощи, принесенные с рынка, но терпеть наглый грабеж и тем более развратные действия этих проходимцев, то и дело совершающих насилие над пушистыми и ласковыми зверьками, именуемыми кошками – топчущих их средь бела дня в моем перистиле[19] – я, как частное лицо, не намерен. Не для того мы приносим жертвы богам, молим о сохранении добрых нравов и прежних римских доблестей; не для того воюем за морями, чтобы мелкие, одетые в звериные шкуры пакостники взламывали наши кладовые и совращали наших домашних подруг…» Ну и так далее.
Матидия рассмеялась.
– Ты помнишь все наизусть.
– Все помню, Матидия. Почему я должен забыть то, что до сих пор мне дорого?
Женщина не ответила, задумалась о чем-то своем. Принцепс спросил.
– Что слышно о твоем муже?
При этом он невольно перевел взгляд на Бебия Корнелия-младшего.
Сын продолжал стоять чуть сзади матери. Был он в полном воинском снаряжении – в нагрудном, начищенном до блеска панцире, надетом на шерстяную, до колен тунику. На голенях поножи, ноги обуты в сандалии из грубой кожи. Шлем – охватывающую голову полусферическую шапочку из металла, пересеченную медными полосами от уха к уху, и ото лба к затылку, снабженную козырьком, нащечниками и насадкой на темени, в которую было вставлено страусиное перо – держал в правой руке. Был он без оружия, на плечах солдатский плащ. Все доспехи отцовские, простенькие, рельефные украшения едва читались. Молодой человек был узколиц, с чуть выдвинутой вперед нижней челюстью, что придавало ему несколько туповатый и жестокий вид. Взгляд сосредоточенный, холодный, похоже, парень себе на уме. Держался скованно и все более поглядывал на мать или украдкой обводил взором шатер.
От встречи с правителем многого не ждал. Скорее всего, дурная слава отца, поддавшегося христианским суевериям, отказавшегося от военной и гражданской карьеры, пренебрегшего римскими доблестями, тяжелой ношей лежала на его плечах.
Император прикинул, что может предложить новобранцу? Место в своей свите? Зачисление в преторианскую когорту? Тех, кто сумел пристроиться в свиту полководца, в армии не жалуют. В войске его сразу сочтут доносчиком, одним из императорских лизоблюдов. А если он таковым не является? Если он мечтает собственными руками восстановить доброе имя семьи? Направить рядовым в конницу? Рука не поднималась, пусть даже Бебий Корнелий Лонг из сословия всадников, однако давным-давно прошли времена, когда родовитые римляне, относящиеся ко второму знатному сословию, служили в кавалерии. Теперь там воюют исключительно союзники из варваров. Однако дать ему под команду сколько бы то ни было солдат тоже опасно. Вояки могут вполне «сожрать» юнца, к тому же не дело принцепса заниматься подобной мелочовкой.
– Последняя весточка, – ответила матрона, – дошла из Карнунта. Бебий сообщал, что решил уйти с купцами в земли германцев. Там и сгинул. Перебежчики говорят, что царь квадов Ариогез решил, что он лазутчик, и посадил его в яму.
Она неожиданно заплакала, тихо без всхлипов. Затем также аккуратно вытерла слезы платком.
– Не думай, Марк, – начала она, – что я посмела испросить аудиенцию, чтобы вымолить кусок пожирнее или пристроить моего сына поближе к императорскому штандарту и подальше от опасностей. Он – честный мальчик, с детства отличался храбростью и знает, что такое воинская дисциплина. Он готов к исполнению любых работ, пусть даже они сначала будут сопряжены с мало достойными для сына всадника занятиями. Он готов копать землю, валить деревья…
В этот момент в палатку неожиданно вошел командир Четырнадцатого легиона Луций Септимий Севе́р, исполняющий обязанности префект лагеря. Секретарь Александр Платоник приложил палец к губам, и они оба замерли у порога.
– Он не подведет в строю, – продолжала Матидия, – умеет обращаться с копьем и дротиками, метко стреляет из лука. Он грамотен. Испытай его в деле, Марк, и ты убедишься, что я хорошо воспитала сына. Причина, которая вынудила меня отправиться в такую даль и обратиться к тебе лично, связана не только с моими семейными делами. Я приехала к тебе по просьбе многих моих подруг, с коими и ты хорошо знаком. Я приехала, чтобы сообщить – твои прокураторы, сборщики налогов, всякая мелкая пакостная челядь, называющая себя «философами», ведут себя в городе словно завоеватели в побежденной стране. Под видом сбора налогов они без страха хватают все подряд, при этом прикрываются твоим именем и постоянно ссылаются на необходимость «исполнить долг перед отцом народа, перед государством». Многие из них уже по несколько раз сменили места жительства, и каждый раз перебираются в новые и все более роскошные дома, а те люди, славные предки которых составили славу Рима, нищенствуют и вопрошают, зачем эти славные победы? Куда смотрит император и так ли важно усмирять диких германцев вдали от Рима, когда в городе засуживают достойных, издеваются над благородными вдовами и малыми детьми. Если в этом, Марк, и заключается твоя «философия», нам нет спасения. Неужели тот Марк, которого любит народ, тот император, который обуздал парфян, без пролития крови справился с заговорщиками, во время наводнения Тибра спас Рим от голода, позаботился о сиротах, устроив их в воспитательные дома, – забыл о долге или утомился, выполняя его?