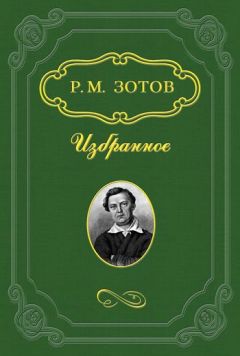— Видишь, мне и впрямь неможется, а ее-то без вины обесчестили.
— Не нам, государыня, судить — по вине, аль без вины. Дело прошлое — что его ворошить.
— От совести, как мухи назойливой, не отмахнешься, Аннушка. Уж сколько я свечек затеплила, чтобы ей, бедняжке, полегче было. Заняла я ее место, заняла, и не спорь. Нейдет из ума — ведь выбирал ее государь, из 200 девок выбирал, а меня-то невидючи сосватал.
— Вот и слава Богу, а то всякое случиться могло.
— А о том и речь. Не пожелал супруг твой ее царицей видеть, вот и сговорил девок косы Афимье так затянуть, что света Божьего невзвидела, без памяти покатилася. Ладно ли так? По Божески ли?
— Борис Иванович сказывал, падучую у нее углядели.
— Сестрица, сестрица матушка, что захочешь, то и усмотришь. Как же после того ни одного припадка у нее не было?
— А ты, государыня-сестица, почем знаешь? Неужто доведывалась?
— И доведывалась. И подарки посылала.
— Да ты што! И государь о том известен?
— Нет, нет, упаси, Господи, как можно! И ты, Аннушка, никому не проговорись, слышишь? От себя я, от себя единственно.
— Ну, удивила, государыня-сестица, слов нет!
— Какое ж тут удивление. По-человечески… Помнишь, первую свадьбу государеву когда порушили? В 1646-м? Два года потом государь о женитьбе и слышать не хотел. Все супруг твой настоял, доказательства всякие представлял, а там старому другу, батюшке нашему, и удружил.
— Что боярин Илья Данилович Милославский с боярином Борисом Ивановичем Морозовым в добром согласии да дружбе всю жизнь живут, в Кремле бок о бок дворы имеют, про то кто в Москве не известен. Перед первым государевым сватовством, помнишь, про батюшку слухи злые поползли, Борис Иванович батюшку как ни на есть собой заслонил.
— Это про соль, что ли?
— Про нее и есть. Оно верно, что тогда пошлину на соль в полторы рыночной цены наложили. Так ведь батюшка для государя да твоего Бориса Ивановича старался. Если свою выгоду и имел, так не он один. А государь на батюшку одного осерчал, да и народ московский, не разобравшись, на него же пошел.
— Может, и впрямь дорого людям-то стало. Поди, зря бунтовать-то никто не будет, разве что отчаявшись.
— Государыня-сестрица, не наше это дело, не бабье. Пусть уж государь со своими советчиками судит. Где нашим-то бабьим умишком все понять.
— Да я что, я тебе только… Жалко ведь — детки там, детки…
17 апреля (1653), на память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого, патриарх Никон ходил в тюрьму и собственноручно роздал 395 человекам милостыню по гривне на сидельца. Итого вышло 41 рубль с полтиною.
Мечется государь в теремах. Мечется — места себе не находит.
Война… Собинной друг так и поведал: не миновать ратного дела. Благословил. А как быть? Как с Украиной разобраться? Без малого шесть лет назад казацкий сотник Зиновий Богдан Хмельницкий[29] бежал из Украины в Запорожье. Раздумался, как с поляками справляться, да и пригласил на помощь крымских татар. Сам к ним ездил. Убедил. Договорился. Казацкая Рада на все согласилась. Гетманом своим его выбрала. Не ошиблась — всю Украину поднять удалось. Где только польское войско не били: и при Желтых Водах, и при Корсуне, в Пилаве. Замостье осадили — поляки и не выдержали: мир под Зборовом заключили. Рады, что живы остались.
Собинной друг любит повторять: слава — не стоит, богатство мимо течет. Покуда воюешь, будешь в выигрыше. Как успокоишься, прощайся с победой. Так у Хмельницкого и вышло. Под Берестечком его поляки побили. Ему бы поразмыслить, не торопиться, а ему мир запонадобился. Второй мир подписать-то подписал под Белой Церковью, ан не та выгода. Что старшины, что казаки, что народ недовольными стали. Пришлось гетману к русскому царю обращаться. Вот и думай теперь, что с казачеством делать. Собинной друг слышать не хочет: всенепременно в подданство принимать, а там уж от войны не спрячешься, да и надо ли? Негоже государю в походах не бывать. Известно, негоже. Семейство да Москву можно на собинного друга оставить. За всем доглядит, никому потачки не даст. Крутенек, да справедлив. Печаловаться о рождении царевны не позволил, а царице таково-то строго надысь приказал: мол, вернется государь из похода, сына ему родишь. Наследника. Царица от страха сомлела. Боится святейшего, больно боится. А сестра-царевна Татьяна Михайловна, поди ж ты, смело так со святейшим толкует. Иной раз и пошутить не боится. Лет-то ей всего девятнадцать, а на все свое суждение имеет. Дело неслыханное — захотела живописному искусству учиться. Что сама — собинной друг подсказал. На Волге, мол, в его краях бабы испокон веков иконы писали. Чего ж государыне царевне добрым делом не заняться. Учителя присоветовали, иноземца. Иконописцы-де государыне не нужны — пусть писанием парсун займется. Иной раз и глупые ее слова слушает. Себе не поверишь.
23 апреля (1653), на память Великомученика Георгия Победоносца, в Успенском кремлевском соборе была отслужена патриархом Никоном вместе с высшим чином духовенства литургия для отпуска на войну ратных полков с их воеводами. Обедня началась в 8-м часу утра. После обедни служили молебен о победе на врага. Молящиеся подходили под благословение патриарха, и все были приглашены государем в Теремной дворец и Столовую палату хлеб есть — на столованье.
Едва развиднелось, на Иване Великом в колокол ударили, чтобы всем вставать, боярам, полчанам да прочим служилым людям в Успенский собор собираться. В иных домах окна почитай всю ночь светились. Такого торжества никто не видал. Сказывали, каждому не то что воеводе — полчанину государь к руке подойти разрешит, кир-Никон собственноручно благословит. Не иначе сам святейший весь порядок и положил. Да еще чтобы жен и дочерей в собор брать — около самой государыни-царицы с семейством царским стоять. Известно, с бабами переполоху не оберешься. Кто из бояр да стольников промолчал. Кто попенять вздумал: никогда такого в заводе не бывало. Государь разгневался — как святейший приказал, так тому и быть. И чтобы все в нарядах наипышнейших — и народ московский, да и иноземцев удивить. Лошадями бы похвастать.
У ворот кремлевских толчея непролазная. Колымаги да возки друг на друга наезжают. Лошади ржут, на дыбы вскинуться норовят. Возницы в горло орут, кнутами хлещут. Внутри Кремля у коновязей мест сразу не стало. Выходит, довезут боярскую семью до паперти, а там хоть обратно в город выезжай. Погода переменчивая. То с Замоскворечья потянет ветерком — солнышко проглянет, то снова небо тучами заволочет, дождь, как из лейки, льется. Над боярынями надо бы покрывала на шестах растянуть, да где там! За толчеей шестов не поднять.
Зато в соборе порядок удивительный. Государь на своем государевом месте, что у южных дверей, государыня — у северных. За государевым местом бояре, окольничьи и думные дьяки по чину, обок него бояре-воеводы и среди всех первый князь Алексей Никитич Трубецкой. Рядом с государыниным местом боярские и прочие честные жены. А позади, до самых западных дверей, полчане в десять рядов. Тут и стольники, и стряпчие, и дворяне, и жильцы, и полковники, головы и сотники стрелецкие. Ни утеснения, ни споров. У каждого свое место — по роду, заслугам да годам.
Обедню отслужили, государь со своего места царского сошел, промеж воевод стал. Святейший к ним так и обратился: воинство православное. Молебен кир-Никон по-особому служить стал: гласом тихим, проникновенным. Сослужащие ему тоже гласов подымать не стали. От пения стройного да еле слышного многие в слезы ударились. Государь главу склонил, очи стирает. Известно, кому судьба из похода вернуться, кому нет.
К иконам прикладываться пошли, духовенство стало читать молитвы на рать идущим с поминанием имен воевод да начальников, почитай всех, кто в храме стоял. Государь же воеводский наказ кир-Никону передал. Святейший наказ тот в киот образа Богоматери Владимирской на пелену поместил — благословился у Божьей Матери, а уж там государю его вернул, царь — князю Алексею Никитичу Трубецкому с товарищами. Немного государь слов напутственных своему воинству сказал, да ничего к ним не прибавить — чтобы служили честно, не уповали бы на многолюдство войска и на своеумие — ратное дело строгое, единоначалия требует. Чтоб не коснулось их сребролюбие — не польстились на чужие богатства и прибыток. И чтоб не боялись страху человеческого.
Кир-Никон государя и государыню просвирами благословил, тогда только и началось целование царской руки. Святейший захотел: сначала к государю подходили, а за ним под патриаршье благословение. Старшим придворным припомнилось: чисто государь Михаил Федорович с отцом своим телесным и духовным патриархом Филаретом. Иные перешептывались, что уж указы появились с подписью «государь-патриарх». Да не часто ли царь патриарху в землю кланялся да к руке прикладывался? Всё на народе, всё во унижение будто. Коли бояре молчали, то не по своей воле. А кир-Никон за всеми доглядывал. Знали: все запомнит, все припомнит. Государя не щадит, что ж об остальных толковать.