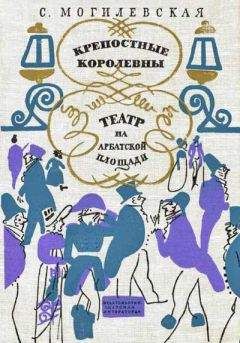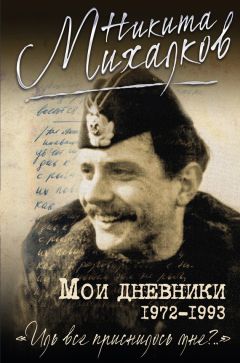Но Санька понимала, что это и не пастушья свирель, и не посвист лесных птах, и не звон весенней капели. А что это были за звуки, понять не могла.
Она ощупью пробиралась за Федором, за его голосом, который ее направлял:
— Сюда, сюда иди… Тутотка не споткнись, порожек… Сейчас придем…
И правда, теперь стало повиднее. Горела толстая сальная свеча, прикрепленная где-то наверху. Санька осмотрелась: не очень тут приглядно! Громоздясь, стояли какие-то холсты, густо и грубо размалеванные. Старые стулья, столы. И много разной рухляди и дребедени. И пыль тут была в достатке, и паутина кое-где свисала. В общем-то, неказисто…
Здесь Федор и начал свою торговлю. Заговорил негромким, но слышным, певучим голосом:
— А кому сбитня… Горячего, имбирного, медового! За кружку — полушку! За Две кружки — две полушки! А три — задарма, ежели деньги на бочку! Налетай, набегай, забирай…
И тут увидела Санька: на голос Федьки со всех сторон стали сходиться люди. Бог ты мой, да люди ли? В белых длинных одеждах, в каких никто никогда сроду не ходит. Лица же у всех размалеваны — страхота! Да не румянами, не белилами, а желтой, синей, серой краской. Один чуднее другого. Свят, свят, свят, не черти ли из преисподней? Куда же Федька ее привел?
Но люди, которые подходили и справа и слева, окружив Федю со всех сторон, были обыкновенными людьми. Сбитень пили, похваливали, просили еще наливать. И голоса у всех были людские:
— А ну-ка, Феденька, еще…
— Хорош, хорош сбитень! Удался…
— Налей-ка, надо перед началом орган промочить.
— Вовремя явился… А почему вчера не был?
— Он знает, когда являться, своего не упустит. Вчера французский был спектакль, они сбитня не пьют.
— Налей, Федор, друг любезный! Твой напиток подобен нектару! Эх…
Федя наливал каждому, на всякое слово отшучивался, а сам нет-нет да и глянет на Саню: видишь, мол, как меня тут знают? За своего почитают.
Это Санька и сама видела: Федор был на своем месте. Всем знаком. Но еще заметила Санька и другое: каждому Федя наливал дополна, иной раз до того щедро, что и через край. Не помышлял, чтобы кому-нибудь не долить. А иному и совсем давал без денег.
— Ты уж прости, Феденька, опять ни гроша, а пить до смерти охота!..
— Ладно, когда будет, отдашь.
И Санька одобряла такое поведение. Не сквалыга парень. Саня тоже никогда не была жадной.
Однако по всему было видно, что Федор торопится распродать свой сбитень. Куда-то, видно, спешит. То и дело приговаривал:
— Поспеем ли? В раек ведь лезть… Высоконько!
Раек? Еще одно словцо непонятное. Непонятное, а любопытное. Куда же ему лезть придется? О том, что и ей, Саньке, придется лезть в этот самый непонятный раек, об этом у нее пока и в мыслях не было.
С одним из актеров Федя вступил в разговор. Перекинулся несколькими фразами. Поглядывал на Саньку, как бы похваляясь: видишь, каков я! Много чего знаю…
— Нынче не трагедия ли господина Озерова?
— Его-с! «Эдипа в Афинах» будем представлять.
— А в первой роли не господин ли Плавильщиков?
— Он самый, Петр Алексеевич!
Вдруг Федор наклонился к самому Санькиному уху. Прошептал:
— Сам идет…
— Кто? — шепотом переспросила Санька.
— Первый наш московский трагик — Петр Алексеевич Плавильщиков.
Мимо, тяжело ступая, прошел старик. Был он с седой бородой (борода-то была привязанная, но этого Санька не поняла), с седыми длинными волосами (и на голове его был парик, но и об этом Саня тоже не догадалась). Белые его одежды свободными складками ниспадали с плеч до самых ног. На ногах были сандалии с прикрепленными вокруг щиколоток ремешками.
Только в этом проходившем мимо старце в чудном белом одеянии Санька не признала и не могла признать того барина, которому давеча на Тверском бульваре вернула кошелек, за что была щедро награждена серебряной полтиной.
Глава восьмая
О том, как Санька смотрела трагедию Озерова «Эдип в Афинах»
Наконец Федор сказал:
— Все. Закрываем торговлю. Скоро начнется, надобно поспешать. — И прибавил, поболтав в чайнике остатком сбитня: — Да тут на донышке осталась самая малость, потом сами допьем! — И, уже обращаясь к Сане, проговорил: — Теперь полезем с тобой в раек.
Санька удивилась несказанно:
— Со мной?! Да ты что…
— Неужто не желаешь поглядеть представление про царя Эдипа?
Хотеть-то Саньке очень хотелось, а домой? О господи! Опустив глаза, она в нерешительности теребила, мяла, перебирала пальцами бахрому своего пунцового полушалка.
Потом шепотом спросила, подняв на Федора покорные глаза:
— И это с собой потащим? — Она показала на пустые из-под сбитня чайники и глиняные кружки.
— Разве можно? В храм Мельпомены? — чуть ли не с ужасом, хоть и весело вскричал Федор.
— В чей, в чей храм? — опять не поняла Санька. — В чей, говоришь?
Федя не стал объяснять. Сказал:
— Ладно, сама увидишь, — и засунул все свое торговое снаряжение за какие-то размалеванные холсты.
— А как утащут? — спросила Санька. — Прибьет тебя хозяин.
— Хозяин у меня хороший, не прибьет. Да и цело будет. Кому сие нужно. Полезли в раек.
Какими-то непонятными темными закоулками Федя провел Саню к крутой и очень узкой лесенке, которая винтом закручивалась вверх. Куда В тот самый раек, надо думать… Санька не стала допытываться. А Федя, видно, частенько тут бывал и хорошо знал эти места.
— Скорей, — поторапливал он Саньку. — Не отставай… Саньке казалось, конца не будет этим скрипучим, еле освещенным ступеням. Думала: куда только Федор меня тащит и куда я, оглашенная, за ним лезу? Небось к богу в рай и то легче попасть, чем в какой-то здешний раек!
Однако не отставала. Лезла, шагала со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку…
А откуда-то сверху, а может, и снизу, а может, слева, а скорее всего отовсюду и все громче и громче доносился какой-то непонятный гул. Словно бы ветер разгулялся по вершинам огромных деревьев, и деревья эти, раскачиваясь из стороны в сторону, непрестанно и протяжно шумели.
А Федя ей хоть полушепотом, однако сердито:
— Ползешь, чисто улитка… Увертюра началась, слышишь? Опять непонятное слово! У-вер-тю-ра… Господи, да что ж это такое? Язык сломаешь, пока выговоришь!
Санька с поспешностью устремилась вверх по лестнице.
Что и говорить — сумбур, сумятица, неразбериха царили сейчас в Санькиной голове. Из того мира, где все было ей ясно и понятно, где на смену весне приходило лето, а вслед за летом шла осень и Зима, где весной нельзя было упустить денечка и надобно было побыстрее вскопать батюшкин огород, посадить репу, горох, посадить чеснок, да лук, да иные овощи, а летом за ними ухаживать — поливать и полоть, а по осени собирать и везти в базарный день на продажу, из того ясного и понятного мира Санька внезапно переместилась в иной мир, где для нее одно было непонятнее другого.
У-вер-тю-ра… Надо же придумать этакое слово!
Наконец долезли. Дальше было некуда. Они находились наверху, почти под самым потолком. А перед ними спина к спине, плечом к плечу стояли люди. Так тесно стояли, что из-за их спин нельзя было разглядеть, что делается впереди. И все больше, успела заметить Санька, находились тут из сословия мещанского или мастеровые, а благородных, какие на Арбатской площади вылезали из карет, тех вовсе не было.
— Теперь вперед будем пробираться, — шепотом через плечо кинул ей Федор.
Вперед? Куда же вперед-то, думала Санька, чувствуя себя дура дурой. Впереди ведь сплошняком стоят. Не по головам же по ихним шагать?
Но Федя, чуть пригнувшись, заработал локтями и плечами. И стеной стоявшие люди невольно раздвигались и давали ему дорогу. Хоть на него сыпалась брань, иной раз и тумаки, Федор ни на что не обращал внимания. Знай себе лез да лез вперед. А Саньке что оставалось делать? Знала: нипочем ей нельзя оторваться от Феди. Без Феди прямая ей здесь погибель.
Уже немного…
И еще чуток…
Долезли!
И Санька невольно ахнула: перед ее глазами разверзлось огромное, глубокое пространство, полное света, людей, музыки и громкого гула человеческих голосов, теперь уже ничуть не похожего на гул деревьев, раскачиваемых ветром.
— Феденька, — чуть слышно прошептала она, — да что же это? А Федор, поглядев на Саньку через плечо, с торжеством ответил:
— Теперь видишь, каков храм Мельпомены?
Арбатский театр, куда так нежданно-негаданно попала Санька, был похож на все театры, которые строились в те времена в России и по всей Европе. Пышно убранный зрительный зал напоминал своей овальной формой огромную подкову. Овал этой подковы был замкнут сценой, которую закрывал занавес. А на занавесе, как полагалось в то время, было изображение трех муз: Мельпомены — музы трагедии, Талии — музы комедии и Терпсихоры — музы пения и танцев. У одной в руке была маска трагическая, у второй — комическая, а муза пения и танцев перебирала пальцами струны лиры.