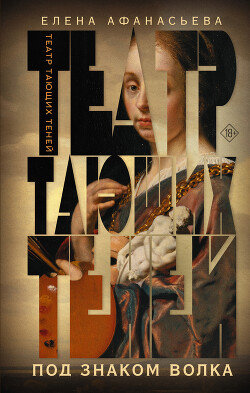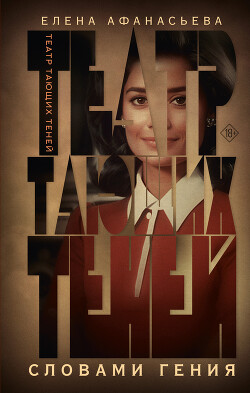— …со мной пошли…
И написано, что готова пойти с первым встречным?
— …не бойся, не трахаться зову… хотя, если хочешь…
Ужас, мелькнувший в ее глазах, смешит его. То есть у нее такой вид, что уже и потрахаться позвать нельзя? Что с ней не так? Черный столб над ней? Черный человек снова рядом?
— …здесь близко… комната пустая, можешь поспать…
— А ты?
— Через балкон уйду… — ухмыляется парень.
Так себе шуточка.
Холодно. Морозит. От нервяка. От легкой для этого времени года одежды. Хочется спать. Дико хочется спать. Нечеловечески хочется спать. И всё равно. После того, что случилось днем, уже всё равно. Давно уже всё равно.
Папа погиб, бабушка умерла, мама предала. Теперь она живет по принципу чем хуже, тем лучше. Будто нарочно загоняет себя в ситуации, хуже которых быть уже не может. Словно боится надежды на лучшее.
Когда плохо, когда очень плохо, надежда страшнее любой беды. После тех двух лет, когда ждали и надеялись, что папа жив, она это точно знает — надежда страшнее самой беды. Или тогда только она и бабушка надеялась, а мама мысленно была уже со своим новым мужем? А если бы она надеялась и ждала, папа вернулся бы? Как можно так предавать?!
Надежда убивает сильнее отчаяния. Так что лучше жить по принципу «чем хуже, тем лучше». Умереть прежде смерти. Тогда любая жизнь, даже самая поганая, покажется жизнью. А не ее отсутствием.
— Эй, как там тебя, даже не знаю как. Пошли…
Через несколько домов от «Китайского летчика» здание с большими витринами модной галереи на первом этаже. Днем здесь всё, кроме остро рубленных букв с названием галереи, было просто белым, а теперь внутри витрин все подсвечено так, будто на белых полотнищах разыгрывается некое действие, будто из небытия в нас всматриваются тени.
Идут мимо этих завораживающих витрин галереи, и отчего-то ей жутко хочется войти внутрь. Понятно, что в начале четвертого утра никакая галерея не работает, но больше всего на свете сейчас хочется войти туда. В тот мир теней.
Тени.
Преследуют ее. В найденных рисунках, из-за которых провалила курсовую. В детстве папа водил на спектакль небольшой театральной труппы, и она запомнила ощущение от театра теней. Страх и трепет, ужас и желание бежать, не дать себя затянуть в теневую реальность. И дикое желание в этот мир теней войти.
Из театра теней — спектакля студенческой студии, для которого она делала декорации, ее и увел несостоявшийся принц. Известный актер и режиссер снизошел до того, чтобы зайти и полюбопытствовать, что за студенческий балаган. Все вокруг шептались: «Сам Свиридов», «Свиридов сам продюсирует свой новый проект», «Свиридову нужна героиня для нового фильма».
Свиридов снизошел. Свиридов посмотрел. И сделал предложение. Не то, о каком мечтали все актрисы студии — не предложение главной роли. Предложение, о котором все актрисы, и не актрисы тоже, и мечтать не могли. Предложение руки и сердца. Как теперь оказалось, без всего остального.
Принц увел ее из театра теней. А тени — вот они. Догнали. В витринах модной галереи. И в подворотне, где снова мелькает Черный человек.
Оглядывается. Человека нет. Есть тень. Черная.
— Ты его видишь?
— Кого? Набухалась ты, сестренка! Мерещится.
Сворачивают во двор. Парень набирает цифры на кодовом замке. В самом центре живет нежданный благодетель. Даже имени его она не знает. Спросить, что ли, как его зовут?
И, словно снова прочитав ее мысли, вставляя ключ в дверной замок, тип произносит:
— Кстати, я Джой [6].
Джой… Джой… Джой, вот уж радость…
Радость… Радость?! Joy…
Пугавшие весь день сообщения, подписанные… «Joy»!!!
Тип, показавшийся в баре нормальным, выслеживал ее целый день, а когда выбросила мобильник, просто завлек к себе…
Под фижмами
Лора
Мадрид. 1646 год
Стоят. Ждут.
Долго стоят. Ноги у всех затекли. У нее особенно.
В тесноте. Прижавшись друг к другу огромными воротниками — lechuguilla на мужских нарядах и gorguera на женских — и фижмами широченных юбок, которые хоть как-то защищают, иначе ее давно бы раздавили и не заметили.
Стоят.
Не отрывая взгляда от огромного балдахина над Королевской кроватью.
Как статуи замерли и ждут. Один завис с рукой, протянутой к балдахину, как только эта рука у него не отваливается! Но завис. Готовый при первом шевелении широкий полог отдернуть и явить светлый лик Короля его вернейшим и приближеннейшим подданным.
Стоят.
И она стоит. Почти висит, зажатая между ног Герцогини, задниц, стоящих «всего на шаг ближе», и животов, стоящих «на целый шаг дальше» в этой, выверенной до сотой доли паса, придворной расстановке Священной Церемонии Пробуждения Его Величества.
Стоят.
В дырочку в юбках Герцогини в такой тесноте плохо видно, но, кроме животов и задниц сильнейших мира сего, отдельные лица ей удается разглядеть. Непохожие на лица великих и сильных. Маленькие, сморщенные. Даже если крупные, то всё равно маленькие.
Стоят.
В ожидании первого королевского чиха. Или первого пука. Любого намека, что его величество изволит пробуждаться.
Стоят.
До Герцогини Лора себя почти не помнит.
Смутно. Всё смутно. Расплывчато. Дрожаще.
Холодное, пронизывающе холодное жилище — то ли монастырь, то ли приют.
Плётки высоких людей. За любую провинность больно хлещут по рукам, по тощему тельцу и ножкам. Следы от плёток выступившей кровью алеют. Потом синеют. Потом рубцуются. Потом переходят в тугую глухую серость. И остаются навсегда.
Всё серое.
Серое небо. Серая каша. Серая пустая похлебка. Серые полы и стены. Каменные, холодные. Ноги стынут. Пальцы рук как лед.
Снег.
Босой ногой, вынутой из тяжелого башмака, касается его. И остается на снегу след ее ступни размером с огурец.
Кроме серости, холода и снега — голод. Тупой непроходящий голод, скручивающий все ее кишки и выворачивающий рвотой наружу.
Она уверена, что по-другому и не бывает. Что так у всех. И всегда.
Когда хочется есть, до боли, до рези в животе хочется есть, но каждый проглоченный кусок как тяжелый камень из дальнего сада застревает внутри — ни туда ни сюда. Откусывать новые куски невозможно, пока этот кусок не проглочен, а все вокруг, у кого руки длиннее, хватают еду с общего стола, и скоро ей опять ничего не останется, но тот первый, жадно откусанный кусок застрял в горле — и никуда.
Холод. Резь в животе. След от ступни на снегу.
И серость. Серость всей жизни…
Холод. Резь. Серость. Голод. И снова холод.
Потом холод в один момент заканчивается.
И появляется зной. Палящий, как огонь в очаге. И медленно отогревающий ее.
Зной.
Она оттаивает, как тот осколок льда, который в ее прежней жизни, вырубив из озера, заносят на кухню, и он долго и медленно тает на каменном полу.
Оттаивает и она.
Долго. Медленно.
Растекаясь новыми ощущениями. И появившимися желаниями — в той, прежней жизни и желаний не было, разве что согреться, и всё.
Теперь — хочется пить. Долго-долго пить.
И спать. Долго-долго спать. На чистых простынях спать.
И сидеть в тени.
И смотреть на новые цвета, вдруг возникшие вокруг нее.
Серость заканчивается. Небо становится синим. Всё вокруг зеленым. И оранжевым. Как солнце. Как апельсиновое дерево под ее окном.
После долгого холода и серости она даже не успевает понять, что в здешнем зное с ней случается еще и жар. Сильный жар. После которого такие, как она, не выживают.
Слышит, как кто-то говорит, склонившись над ее кроватью: «Такие, как она, не выживают. И не привязывайтесь!»
Она выживает. Встаёт. И идет. Босиком по раскаленной от июльского зноя каменной террасе. Перезревший апельсин срывается с ветки, падает прямо под ноги, и, треснув от удара о землю, наполняет пространство вокруг восхитительным ароматом.