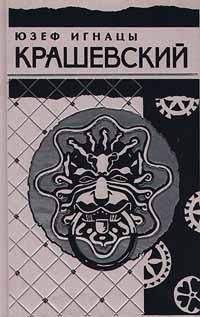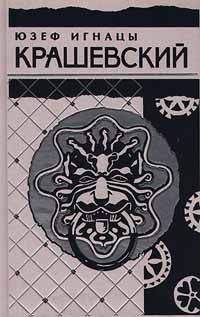Сама Радзеевская переселилась в монастырь кларисок, который богато одарила. Это был залог разлуки с мужем и развода. Радзеевская говорила прямо: «Жить с ним не могу, скорее умру, чем вернусь к нему».
Обо всем этом король узнал только в Люблине, хотя из привезенных Стржембошем известий мог видеть, куда идет дело. Это ставило его в неловкое положение: он должен был вступиться за подканцлершу и защищать ее, и его вмешательство было бы объяснено в ущерб ему и Радзеевской.
Быть может, это ускорило возвращение короля в Варшаву, так как ему хотелось опередить подканцлера.
Радзеевский не поехал из-под Берестечка прямо в Варшаву: он задержался в Крылове, и пробовал добрался до имений Казановского, доставшихся его жене, которыми считал себя вправе распоряжаться; повсюду находил панов Слушков, их управляющих или уполномоченных, с которыми можно бы было справиться разве только силой.
Все это предвещало войну как раз в такой момент, когда он объявил ее королю.
В покровительстве Марии Людвики он не был уверен; отношения между ними с некоторых пор начали становиться холоднее.
Сообщения короля о Радзеевском, подтверждаемые донесениями других лиц, преданных королеве, разоблачили перед ней бесчестные интриги подканцлера. Последняя клевета, обвинение в подкупе, возмутила Марию Людвику.
Довольно торжественно вступил король в столицу, но не так, как надеялся вернуться в нее.
Прежде всего он со всем двором заехал в костел святого Яна, где его ожидало духовенство, сенаторы, королева и множество собравшегося народа.
После благодарственных молитв он вместе с Марией Людвикой удалился в свои покои, где поздравления, приветствия, лесть снова посыпались к ногам победителя, который принимал их с таким смущением, как будто считал себя недостойным их.
Королева первая заметила в муже уныние, которое тем более росло, чем более прославляли его великие дела, героизм и славу. Ни на минуту лицо его не просветлело, а несколько слов, вырвавшихся у него, касались мелочей и незначительных случаев.
Когда официальный прием кончился, король и королева остались одни. Ян Казимир вздохнул свободно.
Он тотчас начал изливать свое долго сдерживаемое горе. Горько жаловался жене на неблагодарность людскую, на ничтожество шляхты, которая умела кричать, но не хотела биться.
— Возвращаюсь не как триумфатор, хотя с виду мы победили, а как не верящий ни во что и сомневающийся в будущем!
Мария Людвика, которая слушала, не обнаруживая признаков удивления, возразила ему:
— Все это я знаю и чувствую так же сильно, как ты, но ни я, ни ты не должны показывать, что считаем себя побежденными. Надо бороться до конца!
Король снова возмутился:
— Знаешь ли ты, какие слухи распустил этот мошенник Радзеевский, мой закоренелый враг?
— Радзеевский негодяй, — перебила королева, — но его несчастная жена, которой ты покровительствуешь, даст ему власть над тобою.
Ян Казимир пожал плечами.
— И ты веришь этому? — воскликнул он.
— Говорю, что слышу и вижу, — продолжала королева сухо. — Радзеевского надо ублажить чем-нибудь, это неисправимый нахал. Дали ему печать и право свободного доступа к нам, и он его не уступит и дойдет до крайних пределов.
— Увидим, — угрюмо отозвался король.
— Приближается сейм, — продолжала Мария Людвика, — от которого зависит продолжение войны, оборона страны, все. Радзеевский вызовет смуту, подберет крикунов послов, не даст ничего сделать. От него можно ждать все.
— Ты имеешь вес в его глазах, — возразил король, — воспользуйся им и своим влиянием.
— Если не будет поздно, — прошептала королева и задумалась.
Почти в то самое время, когда это происходило в замке, подканцлер уже в Радзеевицах уведомленный об опустошении дворца, взбешенный, мчался в Варшаву с угрозами на устах. Он забрал с собой всех людей, дворню, челядь, какую только мог найти и вооружить.
Явившись в пустой дворец, с ободранными стенами, где даже присесть было не на чем, он обезумел от бешенства.
Прикладывая стиснутые кулаки ко лбу, точно собираясь броситься на жену, он кричал:
— Значит, война, — открытая война! Но силы не равны! Радзеевский покажет, что он может сделать, почтенная пани; он не один, и не без помощников!
На его расспросы ответили, что увезено все. В кухне не на чем было готовить еду, в конюшнях остались только пустые ясли, цейхгауз был пуст.
Как сумасшедший, бегал он по дворцу и убеждался, что не оставлено нигде ничего. Даже домашняя капличка подканцлерши с реликвиями и образами была увезена.
Пришлось одолжаться у мещан и послать в Радзеевицы, чтобы привезти оттуда самое необходимое.
Когда ему сообщили, что из дворца увезены вещи, он подумал, что взяты только самые дорогие предметы и драгоценности, а оказалось, что не оставлено ничего.
Человек такого, как он, темперамента должен был ухватиться за самые крайние средства. Он не хотел ни дать развода, ни оказаться побежденным женою в глазах людей.
На другой день рано утром разъяренный подканцлер нахально ворвался к королю и потребовал справедливости.
Ян Казимир холодно ответил ему, что это дело его не касается и что он не намерен вмешиваться в него. Притом же он подлежит разбору духовных, а не гражданских властей.
Радзеевский на этот раз проявил перед королем еще не виданное нахальство. Грозил, издевался, когда же король перестал отвечать, выбежал, не простившись, как сумасшедший.
Прямо от короля он кинулся к нунцию. Итальянец, очевидно, был подготовлен к его посещению. Огромное значение посланника апостольской столицы, его сила вынуждали Радзеевского быть смирным.
Итальянец, ласковый и сладкий, исполненный благодушного сочувствия, принял его с величайшей приветливостью. Подканцлер начал с жалобы на поведение жены и, не смея прямо обвинить короля, намекнул на его вину.
Нунций не хотел понять его намеков.
— Жена обязана вернуться ко мне. Прикажите, ваша эминенция, монастырю выдать ее. Нет ни малейшего повода для расхождения и я его не хочу и не допущу.
Нунций дал ему высказаться, излить свои жалобы, и слушал с невозмутимым терпением.
Среди самых горячих излияний Радзеевского по поводу возмутительного поступка жены итальянец совершенно хладнокровно дал знак подать шоколад. Хотел даже угостить подканцлера, который резко отказался, что не помешало нунцию с большой грацией макать своей белой ручкой, украшенной перстнем с изумрудом, бисквиты в душистый напиток и кушать их с видимым удовольствием.
Когда подканцлер кончил, нунций поставил чашку, отер губы и сказал с улыбкой:
— Всем сердцем соболезную вашему несчастию, достойный пан; рад бы душою пособить вам, но Церковь должна поступать в таких случаях с величайшей осмотрительностью. Монастырь и костел не могут отталкивать тех, которые ищут у них защиты и покровительства. Пани подканцлерша останется у кларисок по крайней мере до тех пор, пока мы не рассмотрим процесса о разводе.
— Но я не допущу развода! — закричал Радзеевский. Нунций промолчал. Тут, не то что у короля, грозить было неудобно, нахальство могло только рассердить князя церкви.
После продолжительных настояний и требований Радзеевский должен был уйти ни с чем.
Разъяренный, потеряв всякую осторожность, он в тот же день заявил во всеуслышание, что не остановится перед монастырскими воротами, велит своим людям выломать их и взять жену силой.
Об этом сообщили подканцлерше, которая, встревожившись, дала знать в замок.
Король без колебаний послал отряд своей гвардии охранять монастырские ворота. Думали, однако, что этого будет достаточно, чтобы удержать Радзеевского от нападения.
Но потому ли, что подканцлер не знал о посылке гвардии в монастырь, или просто пренебрег этим, он на следующее утро явился к монастырским воротам с толпою своих людей.
Тут он дерзко потребовал выдачи своей жены; ему отвечали, что подканцлерша решила остаться и не выйдет. Тогда Радзеевский, крикнув своим людям, бросился на ворота, но в ту же минуту перед ним вырос отряд королевской гвардии с мушкетами в руках, преградивший ему дорогу, и начальник ее крикнул, не особенно вежливо, что имеет приказ силой отражать всякое покушение на спокойствие и неприкосновенность монастыря.
Радзеевский с проклятиями, с пеной у рта, дал своим людям знак отступить.
Толпы, привлеченные любопытством, провожали насмешками отъезжающего подканцлера. Он вернулся в пустой дворец, где его поджидал приятель Дембицкий.
Войдя в залу, где находился подчаший, Радзеевский дрожал и не мог выговорить ни слова. Наконец, он остановился перед Дембицким, сложил пальцы как бы для присяги и поднял руку.
— Слушай и будь свидетелем, — загремел он, — клянусь отомстить… ей и королю! Теперь этот немец будет встречать меня на каждом шагу, я вопьюсь в него, как клещ, буду сосать его кровь, как пиявка. Когда-то Зебржидовский поклялся согнать с престола Сигизмунда; я сорву с его головы корону — испорчу ему жизнь… Зуб за зуб!