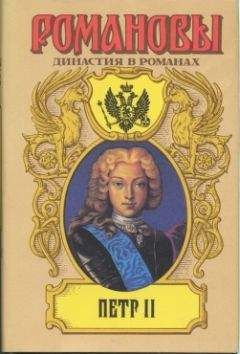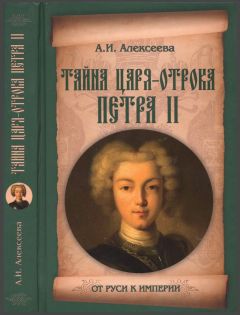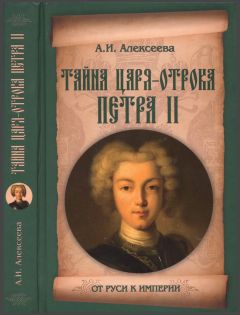Мёртвенно-тихо внутри острожного шлиссельбургского двора. Временами слышатся то шаги караула, то вдруг звук мушкета, выпавшего из рук вздремнувшего часового. Встрепенётся солдатик, подхватит ружьё, запахнёт ветром подбитую шинель, перекрестит размашистым крестом широкий зевок, прислонится к стенке и опять вздремнёт.
– Ого-го-го… выноси, голубчики, – послышалось где-то за крепостью, потом стук колёс по камням, забряцали бубенчики… ближе… ближе… и скоро на двор к комендантскому крыльцу подкатила тройка с телегой: это был гонец из Петербурга с важными бумагами к коменданту.
Разбудили коменданта, старого служаку, неспособного к строевой службе из-за ран, добряка, которого судьба, ради потехи, назначила на суровый пост тюремщика. Прочёл привезённые бумаги добряк и окаменел. Что это? Не сон ли? Не дьявольское ли наваждение? Снова прочёл он, толстая отвислая губа задрожала, чаще и с усилием заморгали веки, перекрестился и чуть слышно проговорил:
– О Господи… Господи… ещё… Иванушку!
Первая бумага была сентенция 31 октября 1739 года генерального собрания кабинет-министров, сенаторов, трёх старших чинов Синода и депутатов от гвардии и разных других ведомств. В сентенции заключалось: «Изображение о государевых воровских замыслах Долгоруковых, в каковых по следствию не только обличены, но и сами винились». Потом излагался приговор: князя Ивана колесовать и потом отсечь голову, князьям Василию Лукичу, Ивану Григорьевичу и Сергею Григорьевичу отсечь головы без колесования. Поступки князей Долгоруковых, фельдмаршала Василия Владимировича и брата его Михаила Владимировича, «хотя и достойных смертной казни, представить на высочайшую милость её императорского величества». В заключение излагалось утверждение 1 ноября приговора государыней и определялось, чтобы исполнение решения совершено было публично в Новгороде, чтобы князя Василия Владимировича заключить в Новгороде, а Михаила Владимировича в Шлиссельбург.
Вторую бумагу составляло строжайшее распоряжение о немедленной отсылке четырёх первых Долгоруковых в Новгород для исполнения над ними приговора. Милосердные судьи, как видно, хотели избежать упрёков в волоките.
Пятого числа обвинённые были уже в Новгороде, куда в тот же день приехал и сам Андрей Иванович Ушаков.
Неизвестно, какими соображениями руководствовались при назначении казни именно в Новгороде. Зачем перевозкой по скверной осенней дороге окровавили истязаниями последние дни перед смертью людей с раздробленными членами.
Андрей Иванович не любил тратить попусту времени и лишать себя долго душевного удовольствия. Тотчас же по приезде в Новгород он навестил страдальца Ивана Алексеевича и – подверг его новому допросу. Конечно, и по новым допросам, даже самого Андрея Ивановича, не могло получиться каких-либо новых сведений. Едва слышным голосом, выходившим из груди, князь Иван снова повторил старую историю о духовной, с раскаянием высказывался о зловредительных словах в Берёзове насчёт государыни и цесаревны, но более ничего.
Накануне дня исполнения приговора, в полдень 7 ноября из-за новгородской заставы вышли несколько человек рабочих и две подводы с нагруженными досками, брусками и отрубками. Пройдя Фёдоровский овраг по мостику, перекинутому через высохший почти ручей, рабочие и возы поднялись на другой высокий берег и направились по болотистой местности. Обойдя кладбище для бедных, известное под названием Скудельничьего кладбища, эта небольшая группа остановилась за четверть версты от кладбища и, следовательно, в версте с небольшим от Новгорода. Выбрав ровное удобное местечко, рабочие принялись за работу этого изобретённого человеческим умом моста к другой жизни.
На другой день, с рассветом, по этой прежде пустынной дороге потянулись толпы горожан, любопытных видеть, как будут рубить головы родовитым князьям. Если бы наблюдательный зритель пожелал подметить выражение лиц большинства этих снующих, спешащих на даровое зрелище людей, то он жестоко бы ошибся: он не прочёл бы ни горя, ни скорби, ни сожаления, ни радости, ни злобы, а только какое-то тупое, деревянное выражение любопытства приниженного, забитого человека.
– Смотри-кась, родный, чтой-то за махина? – спрашивала женщина, протискавшаяся к первым рядам около эшафота, молодого парня, указывая на орудия, приготовленные на эшафоте.
– Разнимать будут, тётка, по составам да головы рубить, – отвечал парень.
– А за что рубить головы? – допытывалась любознательная тётка.
Вопрос был выше понимания парня. Он приподнял с затылка шапку, почесал за ухом и бессознательно проговорил:
– Так, видно, надо, тётка. Начальство указало… стало, надо.
Из городской заставы показалась процессия. Вперёд мерно выступал местный отряд войска, за ним траурные телеги с подсудимыми, и, наконец, шествие замыкалось лицами, официально присутствующими при совершении казни, священником, служилым и, наконец, отрядом войска. По сторонам в беспорядке толкались народные толпы.
Было уже светло. Солнце, прятавшееся за густой тёмной полосой на востоке, вдруг выглянуло; луч его, мимолётно поиграв на стальных штыках, осветил страдающие лица и побежал дальше осветить лица других страдальцев. Воздух морозный, чистый, безветренный, глухо отдающий солдатский шаг; свечи живых покойников горят ярко, мерно колыхаясь.
Процессия перешла овраг, поднялась на высокий берег; и стала приближаться к эшафоту. Барабаны затрещали дробью, солдаты выстроились по сторонам, и обвинённых подняли на помост. Старый священник, обходя осуждённых с последними Христовыми словами любви, особенно долго оставался перед князем Иваном. О чём говорили они, никто, кроме Бога, свидетелем не был, но все видели просветлевшее лицо страдальца и благоговейную любовь старика священника, видели, как старик сам склонился перед ним, государственным преступником и лиходеем, не удерживая слёз, падавших на голову мученика. Вот дан и последний прощальный поцелуй примирения, с которым должен явиться новый жилец нового мира.
Присутствующие сняли шапки и оставались с обнажёнными головами во всё время исполнения приговора. После громкого прочтения резолюции приступили к казни. Князь Иван, казалось, ни на что не обращал внимания, как будто всё совершавшееся было делом совершенно посторонним. Бестрепетным взглядом встретил он подходящего к нему палача. Какая-то странная нечеловеческая мягкость и всепрощающая любовь светились из его глаз и разливались по всему лицу. В эти моменты жалок был не он, покончивший с миром, а жалки люди, совершающие такое дело во имя будто бы государственного блага. И вот, как будто желая сделать всех участниками своей славы, он стал молиться, отчётливо и громко выговаривая слова молитвы в то время, когда его привязывали к доске.
– Благодарю тебя, Боже мой… – говорил он, когда палач рубил ему правую руку, – яко сподобил мя еси… – когда рубилась левая нога, – познати тя… – при отнятии левой руки…
Это были его последние слова. Князь Иван лишился сознания при отсечении правой ноги и палач поспешил окончить дело, отрубив ему голову.
Затем очередь была за князем Василием Лукичом. До самой последней минуты князь Василий надеялся, ждал, что вот сейчас, сейчас прочтётся бумага от государыни о прощении, но бумаги не было, и голова его скатилась вслед за головой князя Ивана. Наконец, зрелище кончилось казнью князей Ивана Григорьевича и Сергея Григорьевича.
Гробовое молчание продолжалось во всё время совершения казни; народ оставался точно окаменелый.
Через несколько месяцев двух братьев Ивана – Николая и Александра перевезли из Вологды в Тобольск, где 28 октября 1740 года состоялось замедлившееся исполнение над ними решения: их обоих наказали кнутом, урезали языки и потом сослали – Александра в Камчатку, а Николая в Охотск. Замечательно, что по кончине Анны Ивановны Бироном было сделано распоряжение об отмене, в поминовение об императрице, наказаний над Николаем и Александром, но это распоряжение было получено в Тобольске месяц спустя после выполнения решения. Избегли уголовных наказаний только один средний брат, Алексей Алексеевич, сосланный в камчатскую экспедицию матросом, сёстры-княжны да знаменитая русская женщина, супруга князя Ивана, Наталья Борисовна с двумя малолетними детьми. Впрочем, тяжкая доля постигла и виновницу общего погрома, «разрушенную государеву невесту». Сосланная в новгородский Воскресенский Горницкий девичий монастырь, она в продолжение двух лет содержалась там в самом строгом заключении на заднем дворе, подле конюшен и хлевов, в арестантском помещении с узким отверстием вместо окна и под двумя замками. В тюрьму её никто не входил, кроме настоятельницы и приставницы, носившей пищу. Несмотря, однако же, на такое суровое содержание, надменный характер девушки не сломился. Раз приставница, рассерженная грубостью, замахнулась на неё чётками из деревянных бус.