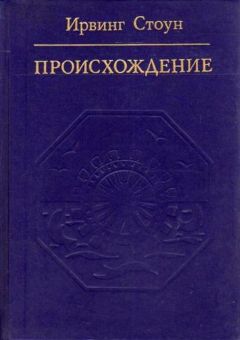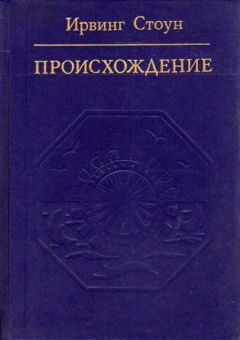— Не подведу ли я Калифорнию? — спросила она.
— Ты больше представляешь ее в неотбеленном миткале.
— Я не стараюсь быть туземкой, дорогой, я пытаюсь быть красивой и элегантно одетой.
— Покажи мне книксен, которому тебя целую неделю учила жена посла Лоуренса.
— Дело в том, что мой отец чувствовал отвращение к леди, кланяющейся, как мужчина, или сгибающейся подобострастно, как слуга.
Раздался стук в дверь.
— Это, вероятно, мой экипаж! — воскликнула Джесси. — Сожалею, что ты не невеста и не леди, чтобы тебя представили королеве. Во всяком случае встречусь с тобой в четыре часа у герцогини Бэдфорд за чаем.
Через несколько минут ее карета въехала во двор Букингемского дворца. Ее провели в комнату, где собирались жены дипломатов. Миссис Лоуренс приехала раньше, чтобы занять для нее место около окна и лучше видеть приезд королевы. Карета королевы, приезжавшей во дворец для приема по случаю Пасхи, была запряжена белыми лошадьми. Открылись двери в тронный зал. Миссис Лоуренс присела, сделав книксен, а затем представила Джесси, которая постаралась не кланяться, подобно мужчине, и не сгибаться, как слуга. После этого их представили принцу Альберту и королеве-матери, а затем они заняли отведенное им место и в течение двух часов наблюдали за процессией почтенных английских леди, выражавших преданность королеве, целовавших руку, а затем отходивших, не поворачиваясь спиной. Джесси поразил контраст между этой сценой и положением первой леди в Соединенных Штатах, получающей на четыре года право жить в Белом доме, вечно нуждающемся в ремонте, и лишь иногда удостаивающейся уважения со стороны избирателей.
После чая у герцогини Бэдфорд Джесси и Джон пошли к сэру Родерику Мерчисону, президенту Королевского географического общества, дававшему обед в честь коллег Джона, получивших медали. Этот вечер показался ей самым приятным в Лондоне: здесь Джон оказался, так сказать, среди своих обветренных путешественников и исследователей. Все они с большим интересом прочитали три доклада и изучили карты Фремонта, в свою очередь послали ему описание своих путешествий. Это были настоящие друзья и братья, связанные нерушимыми узами общих интересов. Джесси с радостью наблюдала за своим мужем; здесь Джон выглядел изумительно: его глаза сверкали, он беспечно и уверенно разговаривал как человек, знающий свое ремесло. Более, чем когда-либо, Джесси почувствовала, какой потерей для него был отход от своего призвания, что он должен вернуться к нему и его талант не должен быть растрачен даром.
Однажды в апрельский вечер, когда они садились в карету, чтобы отправиться на обед в их честь, четыре полицейских с Боу-стрит окружили их и сообщили Джону, что он арестован.
— Арестован? — удивился он. — За что?
Коротышка, представившийся клерком из конторы адвоката, грубо закричал:
— Скоро узнаешь! Ну, ребята, тащите его в тюрьму, бравый полковник скоро узнает, что счета надо оплачивать.
Скорее удивленная, чем встревоженная, Джесси спросила:
— Джон, ты знаешь, в чем дело?
— Вероятно, дело Марипозы. Сарджент продал акции. Я не смог его найти.
— Но ты не отвечаешь за Сарджента…
— Пошли, полковник, — сказал один из полицейских.
Когда группа шла по улице, Джесси крикнула:
— Не беспокойся, дорогой. Я тут же отправлюсь к мистеру Лоуренсу, он вызволит тебя.
Добравшись до дома министра, она узнала, что он уже уехал на обед в честь четы Фремонт. Вновь ей пришлось сесть в карету. Хозяева ждали Фремонтов. Джесси объяснила, чем вызвана задержка. Эббот Лоуренс извинился перед гостями и поехал с ней на Боу-стрит. Штаб-квартира полиции выглядела отвратительно, но еще менее приятными были слова дежурного офицера: он сообщил, что выкуп за полковника Фремонта назначен весьма высокий и он не может освободить его, не получив наличными. Джесси возвратилась с мистером Лоуренсом, но у гостей, приглашенных на обед, не оказалось суммы, достаточной для освобождения Джона.
Обед закончился в полночь; она представляла себе, как недоумевает Джон, почему он все еще сидит в тюрьме на Боу-стрит, когда многие банкиры и государственные деятели Лондона присутствуют на обеде в его честь. Чета Лоуренс отвезла ее в гостиницу «Кларендон», где, проведя бессонную ночь в чуждом ей номере отеля, Джесси нашла, что пребывание мужа в тюрьме не лишает возможности серьезно подумать.
Ее возили утром по лондонским паркам, угощали ланчами и чаем, а Джон тем временем пытался разобраться в путанице, созданной конфликтующими и порой мошенническими компаниями, торговавшими акциями Марипозы на лондонском рынке. Из его нежелания разговаривать о том, как идет размещение акций на Лондонской бирже ценных бумаг, у нее сложилось впечатление, что он спешит уладить дело, не выяснив всех деталей. Марипоза была богатым прииском, который мог бы дать намного больше золота, если бы не нараставшие осложнения, и Джесси все более убеждалась, что им следовало бы либо вести ограниченную разработку золота, либо продать свои права. Американские суды еще не утвердили приобретения, осуществленные на основании мексиканских дарственных грамот, и их права на Марипозу в любой момент могут быть оспорены. Ее муж не годился в бизнесмены: у него не было способностей к этому. Сомнительно, чтобы Джон, обладая талантами исследователя, был и одаренным бизнесменом. У нее также не было склонности заниматься бизнесом. Впрочем, никто в их семье не питал интереса к торговым делам. Она была благодарна средствам, полученным за счет Марипозы, но опасалась, как бы это богатство не вызвало негативных последствий, не толкнуло их жизнь в неправильную колею. Шахты Марипозы обеспечивали им значительные суммы, но с точки зрения права положение было настолько непрочным, что могло рухнуть в любой момент, и они окажутся на мели, да еще со множеством различных тяжб.
На следующее утро, когда пригласивший их накануне на обед хозяин внес залог и доставил Джона в отель «Кларендон», она узнала, что ее мужа задержали не по поводу Марипозы, а из-за четырех чеков на общую сумму девятнадцать тысяч долларов, подписанных им во время кампании по завоеванию Калифорнии. Государственный секретарь Бьюкенен не пожелал признать эти чеки действительными, ведь такой шаг с его стороны могли расценить как свидетельство того, что за завоеванием стоит официальный Вашингтон. Внесенные в конгресс законопроекты об оплате этих чеков не были приняты, и некий калифорниец по имени Хаттмэн предъявил иск Джону в Англии, надеясь на компенсацию за счет личных фондов Фремонта.
Джесси не считала, что ее рассуждения прошлой ночью по поводу Марипозы потеряли свое значение. Она была убеждена, что сохранение путаницы в финансовых делах может быть чревато серьезными неприятностями. Джон согласился с тем, что поиски инвесторов в Англии зашли в тупик. В десять часов он направился к банкирам, чтобы расторгнуть все контракты по финансированию Марипозы. У Джесси отлегло на душе, но ее по-прежнему беспокоила мысль, что британские инвесторы, зачастую вдовы и пенсионеры, потеряли свои деньги, приобретя необеспеченные акции. Если объявятся жертвы закулисных махинаций Сарджента, она готова возместить их потери, ибо некоторые из них, несомненно, положились на добропорядочность самого имени Джона Фремонта. Но если объявить об этом, то претендентов окажется целая лавина, и многие из них отнюдь не с честными намерениями, к тому же такой шаг с ее стороны могут понять как признание ответственности ее мужа за действия Сарджента. Джесси пожала плечами от отвращения и отчаяния.
В конце апреля, когда она проходила мимо конторки портье в гостинице «Кларендон», клерк вручил ей письмо отца. Отец писал о ее брате Рэндолфе, который произнес речь в память Кошута, положительно принятую в Сент-Луисе. Потом она вдруг прочла: «…холера… вызвала у него воспаление мочевого пузыря… потерял сознание на второй день, умер, не осознав своих мучений… такой молодой… мы едва успели сблизиться друг с другом…»
Подобно отцу, она совсем недавно прониклась чувством дружбы к младшему брату. Джесси всплакнула: воспоминания о Рэндолфе причиняли боль. Она не прилагала больших усилий сблизиться с парнем; в ее жизни доминировали взаимоотношения с отцом и мужем. У нее не было времени, чувств и даже заинтересованности в отношении других. Лишь мать проявила к брату так нужную ему доброту.
Джесси понимала, что нужно ценить каждый момент в супружеской жизни; завтра любовь и доброта могут опоздать, отношения должны быть постоянно близкими, но она не придерживалась этой простой истины в отношениях с братом и матерью. Она была хорошей дочерью для отца, хорошей женой, а была ли она хорошей матерью? Или же были часы и даже годы, когда она была невнимательна к Лили и Чарли, как к своему брату Рэндолфу?