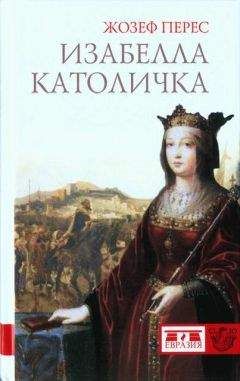— Пошлите герольда к стенам города. Пусть объявит, что, если Малага не сдастся безоговорочно в течение трех дней, мы сотрем город с лица земли и вырежем всех, кто в нем окажется.
— Фернандо…
Он повернулся, и я увидела жесткий взгляд его черных глаз на посеревшем лице. Я прикусила губу, поняв, что придется подчиниться его решению.
Через три дня охваченные отчаянием жители Малаги прислали к нам парламентера с предложением мира. Фернандо разорвал письмо на глазах испуганного гонца:
— Я сказал — никаких условий. Вообще.
— Но, ваше величество, — умоляюще проговорил гонец, стоя на коленях, — в городе есть и христиане с евреями. Мой господин Эль-Сагаль заявляет, что, если мы не договоримся, он их всех убьет.
— Если он тронет хотя бы волос на голове христианина, он об этом пожалеет, — сказал мой муж. — Все вы об этом пожалеете.
Он наклонился к парламентеру так близко, что я едва расслышала его последующие слова:
— Я убью вас одного за другим на глазах у ваших семей. Заставлю жен смотреть на вашу казнь, прежде чем убьют их самих. Ни один мавр не останется в живых, будь то мужчина, женщина или ребенок. Передай это своему господину.
Судорожно вздохнув, гонец с немой мольбой повернулся ко мне. Рядом со мной чуть слышно всхлипнула Исабель. Осада взяла свою дань и с нее; она потеряла в весе и побледнела, под кожей виднелись вены. Приближался день ее бракосочетания, и мы не могли отправить ее в Португалию в столь плачевном состоянии. Дальше тянуть было невозможно.
— Мы обещаем пощадить вас, — сказала я, повысив голос, — если вы поступите так, как требует король, мой муж. Сдайтесь в течение недели, или я не отвечаю за то, что с вами случится.
Гонец помчался в тлеющий город. Прежде жители Малаги грубо насмехались над нами со стен, но после того, как мы отправили им катапультой изуродованный обезглавленный труп несостоявшегося убийцы, они притихли, и мы не увидели на стене ни души, наблюдая, как парламентер проскальзывает под массивной решеткой внешних ворот.
Два дня спустя Малага капитулировала.
Вряд ли объявление Малаги христианским владением Кастилии можно было назвать поводом для празднества. Наши потери насчитывали почти три тысячи. Выжившим в городе пришлось не многим лучше. Вынужденные есть собак и кошек, а потом и лошадей, после тягостных месяцев непрерывных обстрелов, они покорно смотрели на нас из развалин домов, понимая, что брошены на произвол судьбы.
Кадис и другие вельможи выступали за массовые казни, настаивали, что жители Малаги должны поплатиться за покушение на мое убийство; более того, Эль-Сагаль бежал еще до капитуляции, наверняка с помощью тех же горожан, что еще больше разозлило грандов. Но я не позволила творить подобную жестокость от моего имени, убеждала Фернандо, что всех их следует продать в рабство, освободив тех, кто мог заплатить выкуп. Фернандо долго упирался, и мне потребовалось несколько часов уговоров, прежде чем он наконец согласился.
И все же многим предстояло страдать на наших галерах и там умереть. То была страшная цена за Крестовый поход, и меня она нисколько не радовала, даже когда над мечетью Малаги подняли присланный покойным папой Сикстом серебряный крест, освятив ее как собор Санта-Мария-де-Энкарнасьон.
Тем временем я получила письмо от моего казначея равви Сеньеора, который в свое время договаривался о займах на финансирование нашего Крестового похода. Одна сефардская община желала заплатить выкуп за собратьев в Малаге. После долгих размышлений я приняла их плату в двадцать тысяч дублонов, и четыреста исхудавших мужчин и женщин получили свободу, смешавшись с евреями Кастилии.
Сколь бы ни малозначительна была подобная милость с моей стороны, я тем не менее на ней настояла.
До Гранады, последней драгоценности в разбитой мавританской короне, где прятался за алыми стенами Альгамбры Боабдиль, оставалось рукой подать, но наши солдаты вымотались до предела, и мы решили на зиму отступить в Кастилию.
Из-за рубежа шли поздравления с успехами; даже Франция, извечный враг, прислала набор статуэток святых для наших вновь освящаемых церквей. Увидев их, Фернандо фыркнул:
— Конечно, это лишь позолота, а не золото. Французы всегда скупятся, даже если речь идет о богоугодном деле.
И все же меня интриговала наша новая известность, особенно из-за поступавших брачных предложений для моих детей. Вдобавок к союзу с Габсбургами, о котором я уже вела переговоры, новый английский монарх, Генрих Седьмой, основавший династию Тюдоров после убийства последнего короля Плантагенетов, выразил горячее желание получить мою дочь в жены для своего новорожденного сына Артура. Подобные союзы могли расширить наше влияние, окружить Францию паутиной семейных связей, способных погубить эту алчную нацию. Требовалось тщательно обдумать все предложения, а также назначить послов при каждом из королевских дворов за границей. Поскольку казна, как всегда, была почти пуста, я договорилась об очередных займах у еврейских ростовщиков в Валенсии, предложив в качестве залога несколько моих драгоценностей, которые отдавала им на символическое хранение; в обмен они предоставляли мне средства для пышных приемов прибывающих посланников, чтобы произвести на тех впечатление великолепием нашего королевства.
Я также бросала все силы на образование детей и свое собственное, не оправдавшее моих изначальных надежд. Узнала от Карденаса об одаренной женщине-ученом, известной по прозвищу Ла Латина, и очень ею заинтересовалась. Беатрис Галиндо, дочь мелкого вельможи, ждала судьба монахини, но еще в раннем возрасте она проявила столь выдающиеся способности к чтению и латыни, что вместо монастыря ее отправили учиться в университет Салерно в Италии, один из немногих университетов Европы, куда принимали женщин. Получив ученую степень по латыни и философии, она вернулась в Кастилию, стала преподавателем в университете Саламанки — непосредственный результат моего указа о том, что женщины должны пользоваться преимуществами высшего образования. По уровню владения языками, а также обширными познаниями в области риторики и медицины она намного превосходила сверстниц.
Я позвала ее во дворец.
Когда в мой кабинет зашла хрупкая девушка в простом коричневом шерстяном платье и льняном платке, что скрывал волосы и подчеркивал голубизну глаз и румянец щек, я уставилась на нее, не веря глазам.
— Вы так молоды, — проговорила я, когда она поднялась после почтительного реверанса.
— Majestad, мне двадцать лет. — Голос ее звучал тихо, но властно, словно ей ни разу не приходилось его повышать, чтобы быть услышанной. — В девять лет меня отдали в монастырь, где я бы и осталась, если бы моя любовь к учебе не привлекла внимание старших. Я училась в Салерно, но после вашего указа вернулась, чтобы преподавать и заниматься под руководством дона Антонио де Небрихи.
Заметив мое удивление, она добавила:
— Дон де Небриха знаменит в ученых кругах как здесь, так и за границей. Сейчас он готовит свод знаний по испанской грамматике, который надеется посвятить вашему величеству.
— Книгу по испанской грамматике? — рассеянно переспросила я, глядя на набитую кожаную сумку, которую она поставила на пол возле моего стола. — Какая в ней нужда? Я знаю наш язык.
— Majestad, древние римляне использовали язык, чтобы строить империю. Благодаря им латынь распространилась столь широко, что мы до сих пор продолжаем ею пользоваться. Разве не можем мы поступить так же и с нашим языком? Кастилии пойдет лишь на пользу, если появится больше умеющих читать и писать на родном наречии. Как бы я ни уважала латынь, она доступна куда в меньшей степени.
Я замерла. Она только что недрогнувшим голосом напомнила мне о моем невежестве. Но я нисколько не обиделась, понимая, что она вовсе не хотела меня оскорбить. Заметив мой взгляд, она показала на сумку и спросила:
— Хотите посмотреть?
Я кивнула. Пока она ставила сумку на стол и расстегивала ее, я с трудом сдерживалась, чтобы не захлопать в ладоши от радости, чувствуя себя словно ребенок на празднике Богоявления. Беатрис Галиндо привезла с собой из Саламанки целую стопку книг!
— Это «De Finibus», — она протянула мне переплетенный кожей тонкий том, — важный трактат об этике, написанный римским философом Цицероном. А это, — добавила она, выбирая другую книгу в прекрасно выделанной телячьей коже, — «Carmen Paschale», эпос пятого века поэта Седулия, основанный на Евангелии.
Она помолчала.
— Многие считают его бессовестным подражателем Вергилию, но его интерпретация Библии кажется мне довольно оригинальной. Думаю, мы могли бы начать с него, зная, что вы всегда были поборницей нашей веры, ваше величество.
У меня чесались руки от желания раскрыть книги, но при виде ее задумчивого взгляда мне стало стыдно.