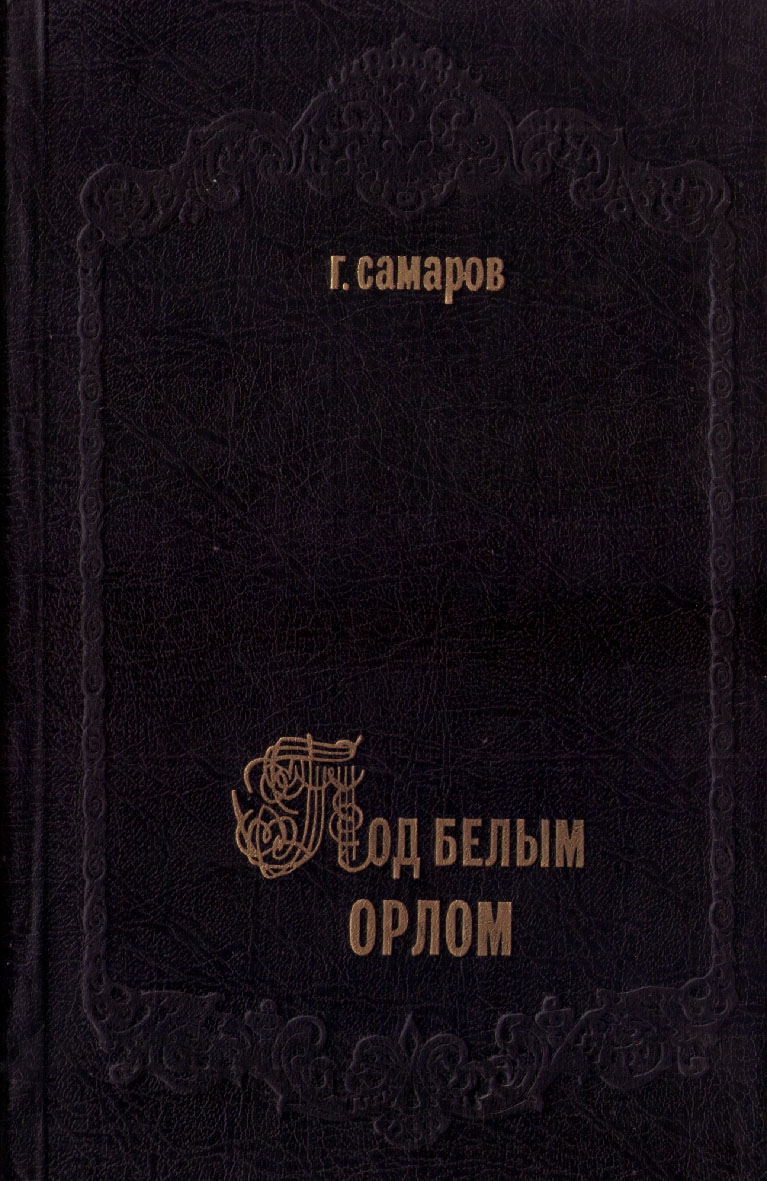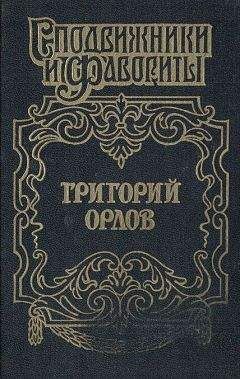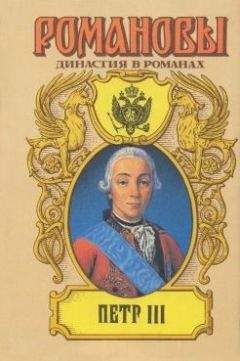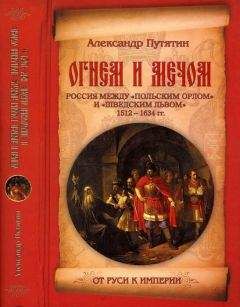Её сердце забилось трепетной страстью.
Она уже хотела поспешить вдоль решётки ко входу и вдруг увидела, как граф Потоцкий взял в руки маленькую записку, с каким выражением счастья он прочёл её и как наконец пламенно прижал её к своим губам.
Её горячо бившееся сердце судорожно сжалось, словно схваченное ледяною рукой смерти; её глаза устремили свой неподвижный взор сквозь зелень ветвей, её бледное лицо исказилось судорогой, а рука, ища опоры, ухватилась за прутья решётки.
Так она и осталась стоять, в то время как Потоцкий медленно направлялся к воротам.
Он не заметил, что конверт записки, столь осчастливившей его, остался лежать на земле.
— Бедный Тадеуш, бедная Людовика! — сказал он, поникнув на грудь головою, — каким мрачным кажется мне ваше горе на фоне моего лучезарного счастья! Как могла Елена так скверно поступить по отношению к вам? Я считал её доброй и благородной, и что же... Тадеуша она вовсе не знала и едва знакома с Людовикой... Что за причина могла подстрекнуть её? Неужели в каждом женском сердце дремлет демон, который пробудясь, творит зло из одной только любви ко всему злому? Нет, нет... если во всех женских сердцах и извивается змея рая, то я знаю одну, которая принадлежит одному небу; в это я буду верить, пока наслаждаюсь ярким солнечным светом!
Разговаривая таким образом с самим собою, граф вышел со двора и направился к центру города.
Графиня Елена не расслышала его слов; ведь она видела, достаточно видела, и её муки не могли бы увеличиться, если бы она даже и услышала.
Она всё ещё стояла прислонясь к решётке, всё ещё устремила свой неподвижный взор на то место, где только что стоял граф.
Вдруг её взгляд упал на лежавшую на земле бумагу.
Мягко крадучись и всё же быстро и смело подвигаясь вперёд, походя своими движениями на тигрицу, графиня направилась ко входу, всё ещё не спуская взора с мелькавшего сквозь прутья решётки и зелень листвы листа бумаги. Она вошла во двор и одним взглядом охватила все окна; в них не было никого, кто мог бы видеть её. С быстротой молнии она подняла с земли конверт письма и поспешила снова на улицу, а затем медленно пошла по направлению к своему дому, силою воли подавляя в себе снедавшее её нетерпение.
Улицы всё более и более оживлялись. Графиня встретила нескольких знакомых, приветствовавших её и даже заговаривавших с нею, и ей приходилось со спокойной, равнодушной улыбкой на губах подавлять все муки в своём сильно бившемся сердце, ощущая на нём, словно жгучую рану, роковую бумагу.
Наконец она добралась до своего дома, заперлась на ключ в своей спальне и дрожащими руками вытащила листок, который должен был пролить свет в ночной мрак, объявший её разум. Конечно, нельзя было ждать от этого света жизненной теплоты, как от солнечных лучей; напротив того, благодаря ему царивший мрак должен был показаться ещё мрачнее, но он должен был указать пылавшему в ней гневу путь мщения.
Однако конверт мало годился на то, чтобы пролить этот демонический свет. На нём ничего не было написано, кроме слов; «Господину Балевскому», а маленькая печать изображала лишь голубя с письмом; последняя была оттиснута, по-видимому, печаткой на драгоценном камне.
Почерк был очевидно женский, а бумага издавала тонкий аромат духов. Графиня с какою-то ревнивою жадностью втягивала его в себя, как бы ища в этом ужаснейшем самоистязании горького удовлетворения своим огромным сердечным мукам. Этот аромат и изящная печать указывали на то, что дама была знатной.
— Но разве мало женщин, — сказала графиня, осматривая бумагу пылающим взором, в который она вложила всю свою душу, — которые так легко постигают эти внешние качества знатного света... в особенности благодаря такому учителю, как граф Игнатий Потоцкий? Разве в Париже можно отличить женщину с театральных подмостков от герцогини? И дама, писавшая это письмо, именно и должна быть таковою, так как она не знает его и пишет ему под фальшивым именем Балевского! О, если бы это было мимолётной связью, без которой не может обойтись такой человек, как Игнатий, и которую я тысячу раз простила бы ему!
На миг в её глазах загорелась ликующая радость, но затем она снова мрачно покачала головой, и горький смех вырвался из её тяжело вздымавшейся груди.
— Нет, нет, — глухим голосом проговорила она, — нет, это — не то. В самом ли деле женщина, писавшая это письмо, не знала настоящего имени Игнатия, или она выбрала это фальшивое имя, чтобы наедине сохранить свою тайну, — одно лишь ясно стоит предо мною в своей разительной непреложности: Игнатий любит эту женщину, горячо и искренне любит её, — он, чьё сердце, как я думала, не знает любви, в чьей груди мне представлялось возможным сильной страстью пробудить дремлющее чувство. Как целовал он это письмо, с каким блаженным восторгом он смотрел на небо, как спрятал у себя на груди этот листок! О, Боже мой, нет сомнения, он любит эту женщину, приславшую ему это послание... Княгиня ли она, или нищая, — всё равно, но она богаче всех на свете благодаря его любви! И я, — со скрежетом вырвалось из-за её сжатых зубов, и её глаза наполнились слезами, — должна была видеть это... вот этими своими глазами должна была видеть это!
Она вскочила с места, осушила свои слёзы.
— Хорошо, что так, — крикнула она резким голосом, — было бы ужасно, если бы случилось иначе... если бы...
Графиня задрожала, а затем, грозно сверкая глазами, произнесла:
— Ну, теперь я знаю, что он тем не менее обманывал меня; ведь всё же обман — сказанные им мне слова о том, что его сердце свободно и принадлежит одной только родине. Он изменил дружбе, и горе, горе ему, если он изменил и, более того, если он прочёл в моём сердце тайну моей любви.
Графиня закрыла сильно пылавшее лицо руками, словно хотела скрыть от самой себя позорную мысль, вздымавшую её гордую душу.
Затем она снова взглянула на ненавистную бумагу. С внутренней стороны конверта она заметила лёгкий отпечаток букв, оставленный на конверте вложенным в него письмом.
Словно пушинку подбросило графиню и она подняла листок в уровень с лицом, оборотной стороной к окну.
— Ничего, ничего, — вглядываясь, проговорила она, — одни лишь несвязные, непонятные штрихи, холодные, немые и неподвижные, как зимнее бедствие, спустившееся на весенние цветы моей надежды... Всё же здесь... вот в