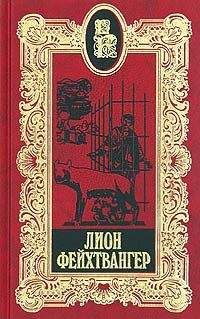Конечно, Домициан опасался, что Луция догадается об истинных обстоятельствах гибели Маттафия и смерти Домитиллы. Но его Норбан еще раз доказал свою преданность, он поработал на славу: наготове были безупречные свидетельские показания, подтверждающие как несчастную случайность, которая стоила Маттафию жизни, так равно и убийство Домитиллы иберийскими троглодитами. И если Домициан мог оправдать себя в глазах людей, тем легче было оправдаться в собственных глазах. Маттафий, бесспорно, повинен в государственной измене, а убрать Домитиллу – в особенности после того изменнического письма – было необходимо, если он в самом деле печется о душах мальчиков.
И все же, едва только к нему ворвалась Луция, рослая, взбешенная, негодующая не только всею душой, но даже каждой складкой своей одежды, вся его уверенность исчезла без следа. Всякий раз ощущал он свое бессилие перед этой женщиной, вот и сегодня вся непоколебимость заранее припасенных доводов растаяла, как воск. Но эта слабость длилась лишь какую–то долю мгновения. В следующий миг он уже снова был прежним Домицианом, и в мягких, учтивых словах выражал свою скорбь, сетуя на судьбу, отнявшую у него и у нее двух друзей. Но Луция не дала ему договорить.
– У этой судьбы, – мрачно сказала она, – есть имя. Ее зовут Домициан. Не надо, не лгите, молчите! Вы не у себя в сенате. Не пытайтесь оправдываться! Оправданий не существует. Я вам не верю – ни единой вашей фразе, ни единому слову, ни единому дыханию. Самому себе вы еще можете врать, мне – нет! А на сей раз вы не в силах одурачить даже самого себя. Вы поступили как трус, подлый и низкий трус! Мальчик понравился вам – но именно за это вы его и убили! Потому что даже вы видели, как он невинен и сколько в нем чистоты, и потому что вы не в силах терпеть ничего чистого рядом с собою! Это была мелкая ревность, и ничего больше. А Домитилла! Ведь вы сами говорили, что она не сделала вам ничего дурного. Какая же у вас грязная душа! Не подходите ко мне, не прикасайтесь! Я самой себе противна, когда думаю о том, что лежала рядом с вами в постели.
Домициан покорно отступил назад, оперся о письменный стол; капельки пота выступили на лбу.
– Однако это доставляло вам удовольствие, Луция, – ухмыльнулся он. – Или я ошибаюсь? По крайней мере, у меня довольно часто складывалось впечатление, что это занятие вам по сердцу.
Но красноречивое лицо Луции выражало бесконечное омерзение, и ухмылка медленно сползла с побагровевших щек Домициана; на миг он даже сделался мертвенно–бледен. Потом – не без труда – снова растянул губы в улыбке.
– Как видно, мальчик и в самом деле был вам очень близок, – подумал он вслух с учтивой, многозначительной иронией. – И, во всяком случае, занятно, очень занятно было услышать то, что вы мне открыли касательно истории наших отношений.
– Да, – отвечала Луция уже гораздо спокойнее, и благодаря этому спокойствию еще больше презрения звучало теперь в ее словах, – да, она очень любопытна, история наших отношений. Но теперь ей конец. Ради вас я бросила мужа, я любила вас. Десять раз, сто раз вы делали такие вещи, от которых вся душа во мне переворачивалась, и всякий раз я давала убедить себя, что я не права. Но теперь – кончено, Фузан, – и это «Фузан» звучало уже не шуткою, а злою издевкой. – Теперь – кончено, – повторила она с особенным ударением на слове «теперь». – Вы часто заговаривали мне зубы, вы упорны, я знаю, и нелегко отказываетесь от своих планов. Но советую вам привыкнуть к мысли, что между нами все кончено. Мои решения приходят внезапно, но я от них не отступаюсь, вам это известно. Мои слова невозможно понять превратно, не то что ваши. Я даю вам отставку, Домициан. Вы мне противны. Я не хочу вас больше знать!
Когда Луция вышла, чуть смущенная, деланно ироническая ухмылка, за которою Домициан пытался скрыть свой гнев, еще оставалась некоторое время на покрасневшем лице императора. Его близорукие глаза смотрят вслед ушедшей, отзвук ее слов еще звенит в его ушах. Потом уголки губ медленно опускаются, он машинально насвистывает мелодию той песенки:
И плешивому красотка не откажет нипочем,
Если он красотке деньги сыплет щедрою рукой.
Он садится за письменный стол, берет золотую палочку для письма и начинает царапать на вощеной табличке круги и завитки, завитки и круги.
– Гм, гм, – произносит он негромко, – занятно, очень занятно.
Стало быть, она его презирает. Многие говорили, что презирают его, но то были пустые слова, бессильные жесты; немыслимо, чтобы смертный презирал его, владыку и бога Домициана. В целом свете Луция единственная, чье презрение для него – не пустое слово.
На миг он осознал во всей полноте и ясности: итак, она ушла, разрезала то, что их связывало. Этот разрез причинял боль, холод лезвия проникал глубоко в душу. Но потом он встряхнулся, отогнал слабость, подумал о том, что решение ее бесповоротно и что, стало быть, нет никакого смысла оплакивать это безвозвратно ушедшее. Оставалось лишь одно – сделать выводы.
Луция отреклась от него, отказалась от его покровительства и защиты. Она больше не жена ему, она враг, изменница. Она хотела заставить его вернуть Домитиллу, хотя, разумеется, никто тверже ее не был уверен, что эта Домитилла постарается оказать пагубное влияние на его сыновей. Уже одно это было государственной изменой. А потом, вдобавок, она принялась плести интригу, пыталась обмануть его, обморочить лицемерным послушанием Домитиллы, чтобы той вблизи было проще и легче отвратить его сыновей от государственной религии. Очевидная измена. Луция – преступница, и он должен метнуть свою огненную стрелу.
Он остался в Риме.
И Луция осталась в Риме, хотя август в том году выдался необычайно жаркий. Может быть, она потому не возвращалась назад в Байи, что потеряла вкус к дому и саду, полным воспоминаний о Маттафии.
Принцы Веспасиан и Домициан нанесли ей визит в сопровождении своего наставника Квинтилиана. События последнего времени дали ему отличный повод тверже внушить мальчикам стоический образ мыслей. «Неомраченным храни в несчастьях дух». [115]Впрочем, ему уже давно не приходилось делать внушения своим воспитанникам, они сохраняли спокойствие, они не жаловались, лица их были замкнуты и суровы. Они были скорее сыновья Домитиллы, чем Клемента, они были истинные Флавии. Еще так короток путь, который они прошли, но весь усеян мертвыми. Теперь им заменял отца человек, который их настоящего отца и, вероятно, их друга отправил в преисподнюю, а мать – в ссылку, в изгнание. Они должны жить бок о бок с этим человеком и только украдкой, только намеком могут поведать друг другу то, что лежит у них на сердце. Человек, назвавший их своими сыновьями, был самым могущественным на свете, их самих в будущем ждала безграничная власть и могущество. Но пока они были безвластнее рабов в рудниках: ведь рабы могут говорить, о чем хотят, могут жаловаться, мен; тем как они, сыновья императора, ходят во мраке, который глубже мрака рудников и каменоломен, а издевательский блеск вокруг них – лишь скверная маскировка этого мрака, и даже во сне они не могут снять личину, которую им приказано носить.
Они узнали, что Луция снова в Риме, это было для них радостью и утешением. Но когда они встретились с нею в первый раз, присутствие Квинтилиана сковало их по рукам и ногам. Луция испугалась, увидев, как сильно переменились мальчики. До чего же быстро переменились они здесь, на Палатине! Все здесь переменилось, а может быть, это она сама видела все до сих пор в ложном свете. Она толком не знала, что сказать мальчикам, все трое с трудом подбирали слова, находчивому Квинтилиану часто приходилось заполнять мучительные паузы. Наконец Луция не выдержала.
– Подойдите ко мне, – сказала она, – не старайтесь быть взрослыми! Ты будь снова Константом, а ты Петроном, и поплачьте по Маттафию и по вашей матери.
И они обняли ее, и уже больше не обращали внимания на Квинтилиана, и предались сладким и горестным воспоминаниям о Маттафии и невнятным речам гнева.